ТАТЬЯНА МАСС
ДНЕВНИК ЭМИГРАНТКИ
Главы из повести
"Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури. Там я уже купил маленький дом. У меня ещё есть двенадцать тысяч рублей; мы поедем и будем там жить вечно. Место очень скучное, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное".
Ф. М. Достоевский, "Бесы"
Ф. М. Достоевский, "Бесы"
Письмо Анны:
"Мария, бонжур!
Ещё нет и десяти дней после нашего расставания на вокзале в Безансоне, а мне кажется, что прошло уже полгода. За это время я изменила своё социальное лицо, пройдя от обычной русской до просителя статуса политического беженца во Франции. Эти изменения, конечно же, отзовутся и внутренними переменами, но пока я всё та же. Мне хочется так думать, во всяком случае. Я обещала написать сразу же, как только мы устроимся, но теперь понимаю, что этого условия мне пришлось бы ждать слишком долго: мы до сих пор ещё не устроены.
В том поезде, который увёз нас из Безансона в Лион, оказался один соотечественник — то ли новый русский, то ли браток. Эти типажи ведь мало отличаются своим обличьем: крепкие руки с обязательной печаткой, бычья шея... Но мне он стал почти симпатичен своим назойливым сочувствием к нашей бесприютности, проявлявшейся в том, что этот криминальный нувориш горячо советовал нам переменить маршрут и сдаваться в Лионе, так как на юге, в Монпелье, куда вы нас отправляли, сейчас, по его словам, слишком много беженцев арабов.
Мы доверились совету опытного и вышли в Лионе, который мне показался городом энергичным и шумным, но и только. На другие впечатления у меня уже не было сил: все мои внутренности обмирали при мысли, что сейчас придётся сказать ту фразу, которой вы нас научили: "Же ве деманде азиль политик" — "Я хочу попросить политического убежища". Выйдя из поезда, я сознательно оттягивала время этой фразы. Мы прошлись по вокзалу, купили булочки, выпили сока… Приближающийся вечер неминуемо грозил поисками ночлега. Я подошла к полицейскому и, будто прыгнув в ледяную воду, произнесла эти слова на моём ужасном французском. Это было трудно. Я и не представляла себе, что это может быть так трудно...
Впрочем, мне пришлось повторить эту фразу раз пять, прежде чем до француза в непривычно элегантной для стража порядка форме дошло, что прилично одетая дама с домашним ухоженным ребёнком (я пытаюсь увидеть нас его глазами) хотела бы стать беженкой в его стране. Я увидела, как в его глазах мелькнуло нечто, что совершенно точно отразило перемену в моих отношениях с внешним миром. Впрочем, корректный полицейский не стал слишком долго заморачиваться и направил нас в ночлежку, где проводят первые ночи на французской земле беженцы всех рас и национальностей — маленькие жертвы великого переселения. Захлёстнутые этой огромной волной, они растеряны и потеряны, но при этом довольно цепки и практичны, как беспризорники у случайного огня.
Привокзальная ночлежка оказалась довольно утлым пристанищем. Расположенная в стене старого железнодорожного виадука, она, как ласточкино гнездо над пропастью, ходит ходуном и скрипит, когда под мостом проносятся электрички.
Койко-мест на всех бесприютных не хватало, нужно было пройти тест, собеседование в кабинете у пожилой дамы, директрисы попечительского совета этого богоугодного заведения. Она была, скорее, строгой, чем милостивой, хотя и то и другое было так сложно в ней намешано, что без чтения "Человеческой комедии" Бальзака тут не разберёшься. Сухая, хорошо причёсанная мадам в элегантном брючном костюме разговаривала со мной с профессиональным оттенком лёгкого аристократического пренебрежения, к которому примешивалась доля некоторого любопытства. По её придирчивым взглядам на мою одежду я поняла, что хорошо одеваться — для беженцев неприлично. Когда после долгих расспросов на французском, английском, а также языке жестов нас запустили, наконец, в ночлежку, на тамошней крошечной кухне готовили себе ароматную пищу к ужину цыгане, албанцы и сербы. Услышав в этом вавилонском смешении языков армянскую речь, я обрадовалась, будто встретила сестру родную.
Армянка Зина была с четырёхлетним сыном, толстым румяным мальчиком. Зина — полная, по-восточному солидная женщина, с ярко накрашенными губами, с химической завивкой, с облупленным лаком на ногтях. Зина, как я поняла из её уклончивых рассказов, профессиональная беженка, она ездит по всей Европе, проживая то в одной стране, то в другой, пока не выгонят. Выгонят из Германии, едет в Испанию. Какую радость она находит в жизни такой, мне оставалось только догадываться.
После ужина (замороженные пакетики, разогретые в микроволновке) нас отвели в спальню, где рядами стояли металлические койки. В душной комнате уже спали женщины и дети. Мужчины располагались в другом помещении. Я, хоть и устала, заснуть не могла, наверное, из-за цыганок, которые всю ночь мирно просидели в дальнем углу спальни, тихонько разговаривая между собой.
На другой день рано утром нас разбудили и отправили в префектуру, где мы с Митей отстояли огромную очередь, чтобы получить рандеву в этой же самой префектуре. Нам назначили это рандеву, так во Франции называются, оказывается, и деловые встречи, а не только любовные свидания, на январь. Сказали, что нам ещё повезло, так как обычное ожидание этого первого рандеву для подготовки заявления и досье на отправку в официальный орган, который занимается решением беженской участи — от четырёх до шести месяцев.
В префектуре, в этом столпотворении народов и смешении языков, до меня дошло, в какое же дело я ввязалась, или, точнее, меня ввязала судьба. Столько страсти на лицах людей, добравшихся сюда на всех известных видах транспортных средств, включая самодельные плоты: из Африки, например, через море! Для всех этих людей в сером кусочке картона, временном удостоверении личности, которое они получают в префектуре, заключены все надежды и мечты о нормальной жизни для себя и своих детей. И мы с Митей в этой толпе...
Митя меня насмешил в префектуре: в огромной очереди подрались две чернокожие женщины: одна обозвала другую проституткой. Драка была жестокой — покуда прибежали полицейские, пролилась кровь из разбитых носов и расцарапанных лиц. Клочки кудрявых жестких волос потом пришёл подмести с пола уборщик. Мой притихший сын мне сказал:
— Я так пожалел эту тётю, которую побили…
Я машинально задала ему глупый вопрос:
— Ну и как же ты пожалел её?
На что Митя ответил:
— Я закрыл глаза и сказал: "Боже мой!"
Уже десять дней как мы живём во Франции, и нас пока ещё не определили ни в одно общежитие для беженцев. Мест нет. Как бы то ни было, всё-таки здесь мы в большей безопасности, чем в Москве. Это успокаивает меня".
"Мария, бонжур!
Ещё нет и десяти дней после нашего расставания на вокзале в Безансоне, а мне кажется, что прошло уже полгода. За это время я изменила своё социальное лицо, пройдя от обычной русской до просителя статуса политического беженца во Франции. Эти изменения, конечно же, отзовутся и внутренними переменами, но пока я всё та же. Мне хочется так думать, во всяком случае. Я обещала написать сразу же, как только мы устроимся, но теперь понимаю, что этого условия мне пришлось бы ждать слишком долго: мы до сих пор ещё не устроены.
В том поезде, который увёз нас из Безансона в Лион, оказался один соотечественник — то ли новый русский, то ли браток. Эти типажи ведь мало отличаются своим обличьем: крепкие руки с обязательной печаткой, бычья шея... Но мне он стал почти симпатичен своим назойливым сочувствием к нашей бесприютности, проявлявшейся в том, что этот криминальный нувориш горячо советовал нам переменить маршрут и сдаваться в Лионе, так как на юге, в Монпелье, куда вы нас отправляли, сейчас, по его словам, слишком много беженцев арабов.
Мы доверились совету опытного и вышли в Лионе, который мне показался городом энергичным и шумным, но и только. На другие впечатления у меня уже не было сил: все мои внутренности обмирали при мысли, что сейчас придётся сказать ту фразу, которой вы нас научили: "Же ве деманде азиль политик" — "Я хочу попросить политического убежища". Выйдя из поезда, я сознательно оттягивала время этой фразы. Мы прошлись по вокзалу, купили булочки, выпили сока… Приближающийся вечер неминуемо грозил поисками ночлега. Я подошла к полицейскому и, будто прыгнув в ледяную воду, произнесла эти слова на моём ужасном французском. Это было трудно. Я и не представляла себе, что это может быть так трудно...
Впрочем, мне пришлось повторить эту фразу раз пять, прежде чем до француза в непривычно элегантной для стража порядка форме дошло, что прилично одетая дама с домашним ухоженным ребёнком (я пытаюсь увидеть нас его глазами) хотела бы стать беженкой в его стране. Я увидела, как в его глазах мелькнуло нечто, что совершенно точно отразило перемену в моих отношениях с внешним миром. Впрочем, корректный полицейский не стал слишком долго заморачиваться и направил нас в ночлежку, где проводят первые ночи на французской земле беженцы всех рас и национальностей — маленькие жертвы великого переселения. Захлёстнутые этой огромной волной, они растеряны и потеряны, но при этом довольно цепки и практичны, как беспризорники у случайного огня.
Привокзальная ночлежка оказалась довольно утлым пристанищем. Расположенная в стене старого железнодорожного виадука, она, как ласточкино гнездо над пропастью, ходит ходуном и скрипит, когда под мостом проносятся электрички.
Койко-мест на всех бесприютных не хватало, нужно было пройти тест, собеседование в кабинете у пожилой дамы, директрисы попечительского совета этого богоугодного заведения. Она была, скорее, строгой, чем милостивой, хотя и то и другое было так сложно в ней намешано, что без чтения "Человеческой комедии" Бальзака тут не разберёшься. Сухая, хорошо причёсанная мадам в элегантном брючном костюме разговаривала со мной с профессиональным оттенком лёгкого аристократического пренебрежения, к которому примешивалась доля некоторого любопытства. По её придирчивым взглядам на мою одежду я поняла, что хорошо одеваться — для беженцев неприлично. Когда после долгих расспросов на французском, английском, а также языке жестов нас запустили, наконец, в ночлежку, на тамошней крошечной кухне готовили себе ароматную пищу к ужину цыгане, албанцы и сербы. Услышав в этом вавилонском смешении языков армянскую речь, я обрадовалась, будто встретила сестру родную.
Армянка Зина была с четырёхлетним сыном, толстым румяным мальчиком. Зина — полная, по-восточному солидная женщина, с ярко накрашенными губами, с химической завивкой, с облупленным лаком на ногтях. Зина, как я поняла из её уклончивых рассказов, профессиональная беженка, она ездит по всей Европе, проживая то в одной стране, то в другой, пока не выгонят. Выгонят из Германии, едет в Испанию. Какую радость она находит в жизни такой, мне оставалось только догадываться.
После ужина (замороженные пакетики, разогретые в микроволновке) нас отвели в спальню, где рядами стояли металлические койки. В душной комнате уже спали женщины и дети. Мужчины располагались в другом помещении. Я, хоть и устала, заснуть не могла, наверное, из-за цыганок, которые всю ночь мирно просидели в дальнем углу спальни, тихонько разговаривая между собой.
На другой день рано утром нас разбудили и отправили в префектуру, где мы с Митей отстояли огромную очередь, чтобы получить рандеву в этой же самой префектуре. Нам назначили это рандеву, так во Франции называются, оказывается, и деловые встречи, а не только любовные свидания, на январь. Сказали, что нам ещё повезло, так как обычное ожидание этого первого рандеву для подготовки заявления и досье на отправку в официальный орган, который занимается решением беженской участи — от четырёх до шести месяцев.
В префектуре, в этом столпотворении народов и смешении языков, до меня дошло, в какое же дело я ввязалась, или, точнее, меня ввязала судьба. Столько страсти на лицах людей, добравшихся сюда на всех известных видах транспортных средств, включая самодельные плоты: из Африки, например, через море! Для всех этих людей в сером кусочке картона, временном удостоверении личности, которое они получают в префектуре, заключены все надежды и мечты о нормальной жизни для себя и своих детей. И мы с Митей в этой толпе...
Митя меня насмешил в префектуре: в огромной очереди подрались две чернокожие женщины: одна обозвала другую проституткой. Драка была жестокой — покуда прибежали полицейские, пролилась кровь из разбитых носов и расцарапанных лиц. Клочки кудрявых жестких волос потом пришёл подмести с пола уборщик. Мой притихший сын мне сказал:
— Я так пожалел эту тётю, которую побили…
Я машинально задала ему глупый вопрос:
— Ну и как же ты пожалел её?
На что Митя ответил:
— Я закрыл глаза и сказал: "Боже мой!"
Уже десять дней как мы живём во Франции, и нас пока ещё не определили ни в одно общежитие для беженцев. Мест нет. Как бы то ни было, всё-таки здесь мы в большей безопасности, чем в Москве. Это успокаивает меня".
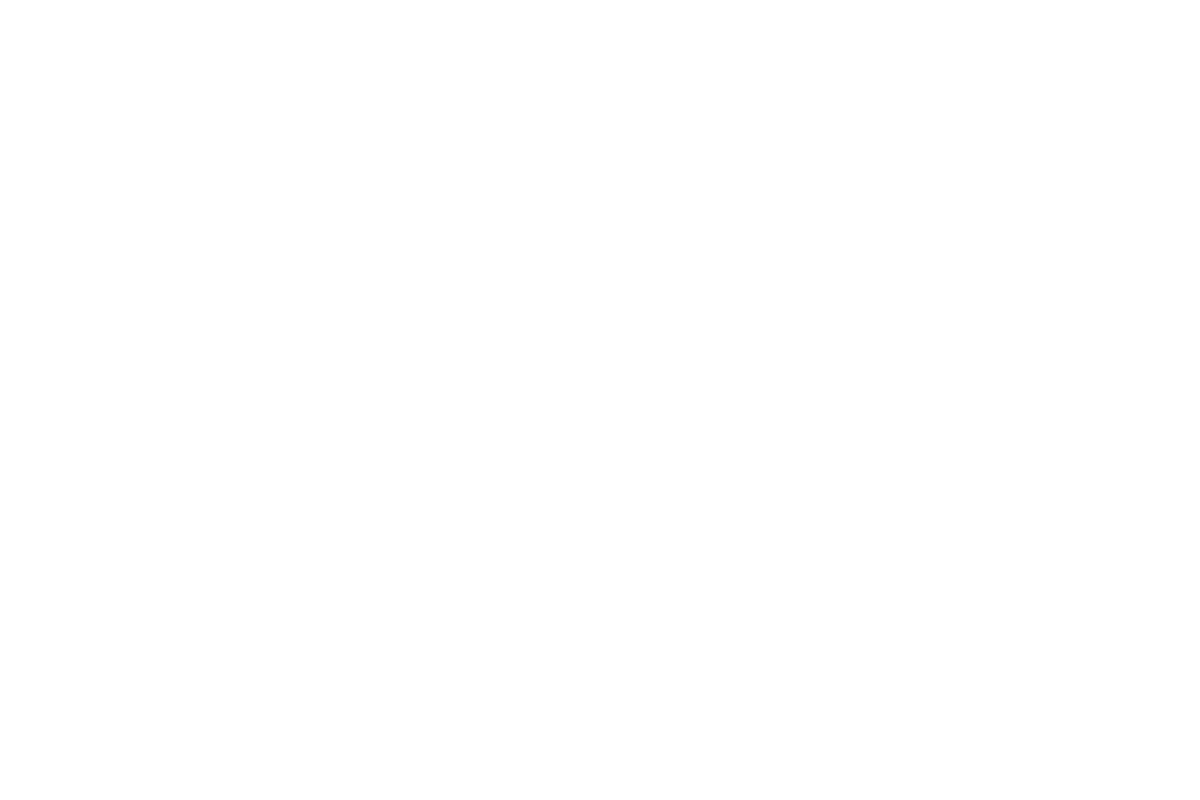
Анна написала это письмо вечером. К тому времени они жили с Митей в ночлежной гостинице, в которую запускали только на ночь. Это была уже вторая их ночлежка во Франции. Она была получше первой уже хотя бы потому, что им выделили здесь отдельную комнату. Другие спали и в коридорах, на двухэтажных кроватях. Мест на всех не хватало: в Лион пришли морозы. Иногда ночью полицейские патрули доставляли сюда бомжей, подобранных на улицах. И тогда, ещё не умерив своих хриплых голосов с мороза, бомжи будили спящих, споря то с полицейскими, то с дежурным.
Однажды ночью Анна проснулась от леденящего душу крика. Так мог кричать только смертельно раненый человек. Выглянув коридор, она увидела сцену: новопривезённый бомж орал и бился, не желая залезать на второй ярус кровати. Митя от этих воплей не проснулся.
Для пропитания им выдали талоны в столовую для бомжей. Их места за столом оказались рядом с огромного роста албанцем, у которого все зубы были железными. Митя как завороженный смотрел на эти клацающие железные челюсти, перемалывающие пищу, и отказывался есть.
Они должны были целыми днями находиться вне ночлежки, хоть на улице, и лишь под вечер их вместе с другими замёрзшими людьми, толпящимися у входа, запускали назад. Чтоб не мёрзнуть, Анна вела сына в огромный торговый центр, расположенный неподалёку от гостиницы. В этом центре можно было гулять целыми днями. Многоэтажное здание с фонтанами, бутиками, зимним садом под стеклянной крышей сверкало разноцветной рекламой и гремело музыкой, завлекая посетителей.
Открывался центр в девять утра. Анна покупала себе и Мите горячий шоколад в автомате, потом они шли смотреть игрушки в огромный бутик, заставленный автомобилями, куклами, плюшевыми собаками и обезьянами в человеческий рост, но после истерики, которую Митя устроил у огромной оранжевой медведицы с медвежатами, отказываясь уходить без этого роскошного зверя, Анна огибала опасное пространство, не желая травмировать сына вынужденной аскезой.
После прогулки они шли в Макдоналдс, где Митя быстро съедал гамбургер и бежал к детям в огороженное сеткой пространство для игр, до пота лазая по верёвочным лестницам или бросаясь с верхних ярусов вниз, на мягкие поролоновые матрасы. Анна пила кофе и пыталась размышлять о том, что же с ними будет дальше. Эти попытки заглянуть в будущее были напрасны: даже завтрашний день был глух и нем. У неё, умевшей слушать будущее, отказала способность принимать и понимать знаки. Понятие "чужбина", оказывается, имело не только географический смысл... Анна начинала думать, что здесь действуют законы тонкого мира. Во всяком случае, чужбина говорила с ней на чужом языке.
Засматриваясь на играющих детей, она забывала обо всём, с любопытством иностранки наблюдая за французами, их жестами, отношениями. Вот многодетная мама притащила сюда целую семейку, троих детей: живых, подвижных, не капризных. Оставив младших под присмотром старшего брата, мальчика лет десяти, женщина — сухая с усталым, морщинистым лицом, ушла за покупками. Мальчики, увлечённые игрой, не обращали внимания на её исчезновение.
Вот бабушка привела внучку — грациозную пятилетнюю девочку с задумчивым серьёзным взглядом. Пока ухоженная пожилая дама читала книжку, девочка направилась туда, где играли дети. По дороге она неожиданно получила крепкого тумака от толстого мальчишки-араба, но не расплакалась и не побежала к бабушке, а удивлённо посмотрела на мальчишку, который показывал ей язык и снова начал толкаться. Девочка упала, зачитавшаяся бабушка оторвалась от книги, но не ринулась к внучке на помощь, а стала смотреть на неё и на её обидчика, стараясь понять, что же внучка будет делать дальше. Девочка, явно желая расплакаться, всё же встала и упрямо продолжила свой путь к играм. Когда преследователь захотел ударить её в третий раз, она остановилась и крикнула на него изо всех сил. Мальчишка отступил, а бабушка, пряча улыбку, вернулась к прерванному чтению.
Так французская бабушка дала урок борьбы за выживание своей внучке. Русская бабушка, пожалуй, давно бы прибежала и вмешалась — жалость победила бы рассуждения о том, что детям нужно давать возможность самим бороться за своё счастье. То ли у французов более холодная голова, то ли у наших более горячее и нетерпеливое сердце…
* * *
На пятое утро Митя заболел. На рассвете, почувствовав беспокойный сон сына, Анна коснулась его жаркого лба. Еле дождавшись семи часов утра — времени появления администрации, она бросилась в кабинет заведующего, вымолила разрешение остаться с ребёнком на день в ночлежке и, хорошенько укрыв забывшегося беспокойным сном Митю, побежала за лекарствами. В аптеке продавщица никак не могла или просто не желала понять её английского — высокомерно отодвинувшись, она рассеянно выслушала сбивчивые объяснения Анны: эмоциональные клиенты, да ещё не говорящие по-французски, вызывали у местных лишь желание отодвинуться подальше. Зазвонил телефон, и мадам вступила в долгую любезную беседу. Анна, не выдержав, вышла на улицу. Только через час поисков на витрине невзрачной аптеки она заметила знакомое жаропонижающее.
Митю рвало, он побледнел и отказывался от еды. Анна пошла к директору и со слезами, которые неожиданно полились из её глаз градом, попросила вызвать врача. Когда пришёл врач, Митя спал. Доктор, бросив быстрый взгляд вокруг, отметив старые одеяла и обшарпанную мебель ночлежки, с сочувствием посмотрел на Анну. Он попросил разбудить ребёнка и, осмотрев бледного осунувшегося мальчика, поставил диагноз — острая ангина.
— Вы давно здесь живёте? — спросил он по-английски у Анны.
— Почти неделю. Нас обещают перевести в общежитие для беженцев.
— Не думаю, что там будет намного лучше, — смягчил улыбкой своё пророчество врач.
Анна, видя всю грязь и убожество окружающей их обстановки, давно запретила себе быть брезгливой. Однажды утром, проснувшись рядом с Митей, она увидела, что сын спит с открытым ртом, своими губами касаясь при этом края грязного одеяла — простыня, защищающая от прикосновения к этому липкому от грязи шерстяному одеялу, под которым спали бомжи, проститутки и алкоголики, сползла. Анна тогда поправила простыню, запретив себе содрогаться от омерзения: брезгливость в её положении была роскошью, она могла, как мощный динамик из старой батарейки, высосать остатки энергии и лишить её так нужного сейчас чувства внутренней правоты.
Она вспомнила, как муж учил её чувствовать прикосновение к разным поверхностям: ткани, металла, камня. Олег говорил, что нужно учиться видеть руками. Они гуляли в тот день по лесу, недалеко от дачи его отца на берегу Рижского залива. Высокие сосны, синее небо, безмятежность лета и, как-тогда казалось, всей жизни — всё было напоено солнцем, смехом, счастьем, рождением Мити.
Олег заставлял её прикладывать руки к шершавым стволам сосен, напоминавшим кожу рептилий, давал ей потрогать большой и прохладный зелёный лист, а потом достал свой янтарный мундштук.
— Вот янтарь. Это просто кусок солнца, энергетика сумасшедшая. Прикоснись к нему с закрытыми глазами… Чувствуешь?
— Нет, просто гладкая поверхность…
— А я чувствую — медовуха в камне… Сладость на кончиках пальцев!
Тогда ей не удалось увидеть руками, а теперь она и не хотела ничего замечать вокруг себя. Иначе ей стало бы невыносимо среди запахов и прикосновений к пропитанным чужим потом шерстяным одеялам в ночлежке.
Однажды ночью Анна проснулась от леденящего душу крика. Так мог кричать только смертельно раненый человек. Выглянув коридор, она увидела сцену: новопривезённый бомж орал и бился, не желая залезать на второй ярус кровати. Митя от этих воплей не проснулся.
Для пропитания им выдали талоны в столовую для бомжей. Их места за столом оказались рядом с огромного роста албанцем, у которого все зубы были железными. Митя как завороженный смотрел на эти клацающие железные челюсти, перемалывающие пищу, и отказывался есть.
Они должны были целыми днями находиться вне ночлежки, хоть на улице, и лишь под вечер их вместе с другими замёрзшими людьми, толпящимися у входа, запускали назад. Чтоб не мёрзнуть, Анна вела сына в огромный торговый центр, расположенный неподалёку от гостиницы. В этом центре можно было гулять целыми днями. Многоэтажное здание с фонтанами, бутиками, зимним садом под стеклянной крышей сверкало разноцветной рекламой и гремело музыкой, завлекая посетителей.
Открывался центр в девять утра. Анна покупала себе и Мите горячий шоколад в автомате, потом они шли смотреть игрушки в огромный бутик, заставленный автомобилями, куклами, плюшевыми собаками и обезьянами в человеческий рост, но после истерики, которую Митя устроил у огромной оранжевой медведицы с медвежатами, отказываясь уходить без этого роскошного зверя, Анна огибала опасное пространство, не желая травмировать сына вынужденной аскезой.
После прогулки они шли в Макдоналдс, где Митя быстро съедал гамбургер и бежал к детям в огороженное сеткой пространство для игр, до пота лазая по верёвочным лестницам или бросаясь с верхних ярусов вниз, на мягкие поролоновые матрасы. Анна пила кофе и пыталась размышлять о том, что же с ними будет дальше. Эти попытки заглянуть в будущее были напрасны: даже завтрашний день был глух и нем. У неё, умевшей слушать будущее, отказала способность принимать и понимать знаки. Понятие "чужбина", оказывается, имело не только географический смысл... Анна начинала думать, что здесь действуют законы тонкого мира. Во всяком случае, чужбина говорила с ней на чужом языке.
Засматриваясь на играющих детей, она забывала обо всём, с любопытством иностранки наблюдая за французами, их жестами, отношениями. Вот многодетная мама притащила сюда целую семейку, троих детей: живых, подвижных, не капризных. Оставив младших под присмотром старшего брата, мальчика лет десяти, женщина — сухая с усталым, морщинистым лицом, ушла за покупками. Мальчики, увлечённые игрой, не обращали внимания на её исчезновение.
Вот бабушка привела внучку — грациозную пятилетнюю девочку с задумчивым серьёзным взглядом. Пока ухоженная пожилая дама читала книжку, девочка направилась туда, где играли дети. По дороге она неожиданно получила крепкого тумака от толстого мальчишки-араба, но не расплакалась и не побежала к бабушке, а удивлённо посмотрела на мальчишку, который показывал ей язык и снова начал толкаться. Девочка упала, зачитавшаяся бабушка оторвалась от книги, но не ринулась к внучке на помощь, а стала смотреть на неё и на её обидчика, стараясь понять, что же внучка будет делать дальше. Девочка, явно желая расплакаться, всё же встала и упрямо продолжила свой путь к играм. Когда преследователь захотел ударить её в третий раз, она остановилась и крикнула на него изо всех сил. Мальчишка отступил, а бабушка, пряча улыбку, вернулась к прерванному чтению.
Так французская бабушка дала урок борьбы за выживание своей внучке. Русская бабушка, пожалуй, давно бы прибежала и вмешалась — жалость победила бы рассуждения о том, что детям нужно давать возможность самим бороться за своё счастье. То ли у французов более холодная голова, то ли у наших более горячее и нетерпеливое сердце…
* * *
На пятое утро Митя заболел. На рассвете, почувствовав беспокойный сон сына, Анна коснулась его жаркого лба. Еле дождавшись семи часов утра — времени появления администрации, она бросилась в кабинет заведующего, вымолила разрешение остаться с ребёнком на день в ночлежке и, хорошенько укрыв забывшегося беспокойным сном Митю, побежала за лекарствами. В аптеке продавщица никак не могла или просто не желала понять её английского — высокомерно отодвинувшись, она рассеянно выслушала сбивчивые объяснения Анны: эмоциональные клиенты, да ещё не говорящие по-французски, вызывали у местных лишь желание отодвинуться подальше. Зазвонил телефон, и мадам вступила в долгую любезную беседу. Анна, не выдержав, вышла на улицу. Только через час поисков на витрине невзрачной аптеки она заметила знакомое жаропонижающее.
Митю рвало, он побледнел и отказывался от еды. Анна пошла к директору и со слезами, которые неожиданно полились из её глаз градом, попросила вызвать врача. Когда пришёл врач, Митя спал. Доктор, бросив быстрый взгляд вокруг, отметив старые одеяла и обшарпанную мебель ночлежки, с сочувствием посмотрел на Анну. Он попросил разбудить ребёнка и, осмотрев бледного осунувшегося мальчика, поставил диагноз — острая ангина.
— Вы давно здесь живёте? — спросил он по-английски у Анны.
— Почти неделю. Нас обещают перевести в общежитие для беженцев.
— Не думаю, что там будет намного лучше, — смягчил улыбкой своё пророчество врач.
Анна, видя всю грязь и убожество окружающей их обстановки, давно запретила себе быть брезгливой. Однажды утром, проснувшись рядом с Митей, она увидела, что сын спит с открытым ртом, своими губами касаясь при этом края грязного одеяла — простыня, защищающая от прикосновения к этому липкому от грязи шерстяному одеялу, под которым спали бомжи, проститутки и алкоголики, сползла. Анна тогда поправила простыню, запретив себе содрогаться от омерзения: брезгливость в её положении была роскошью, она могла, как мощный динамик из старой батарейки, высосать остатки энергии и лишить её так нужного сейчас чувства внутренней правоты.
Она вспомнила, как муж учил её чувствовать прикосновение к разным поверхностям: ткани, металла, камня. Олег говорил, что нужно учиться видеть руками. Они гуляли в тот день по лесу, недалеко от дачи его отца на берегу Рижского залива. Высокие сосны, синее небо, безмятежность лета и, как-тогда казалось, всей жизни — всё было напоено солнцем, смехом, счастьем, рождением Мити.
Олег заставлял её прикладывать руки к шершавым стволам сосен, напоминавшим кожу рептилий, давал ей потрогать большой и прохладный зелёный лист, а потом достал свой янтарный мундштук.
— Вот янтарь. Это просто кусок солнца, энергетика сумасшедшая. Прикоснись к нему с закрытыми глазами… Чувствуешь?
— Нет, просто гладкая поверхность…
— А я чувствую — медовуха в камне… Сладость на кончиках пальцев!
Тогда ей не удалось увидеть руками, а теперь она и не хотела ничего замечать вокруг себя. Иначе ей стало бы невыносимо среди запахов и прикосновений к пропитанным чужим потом шерстяным одеялам в ночлежке.
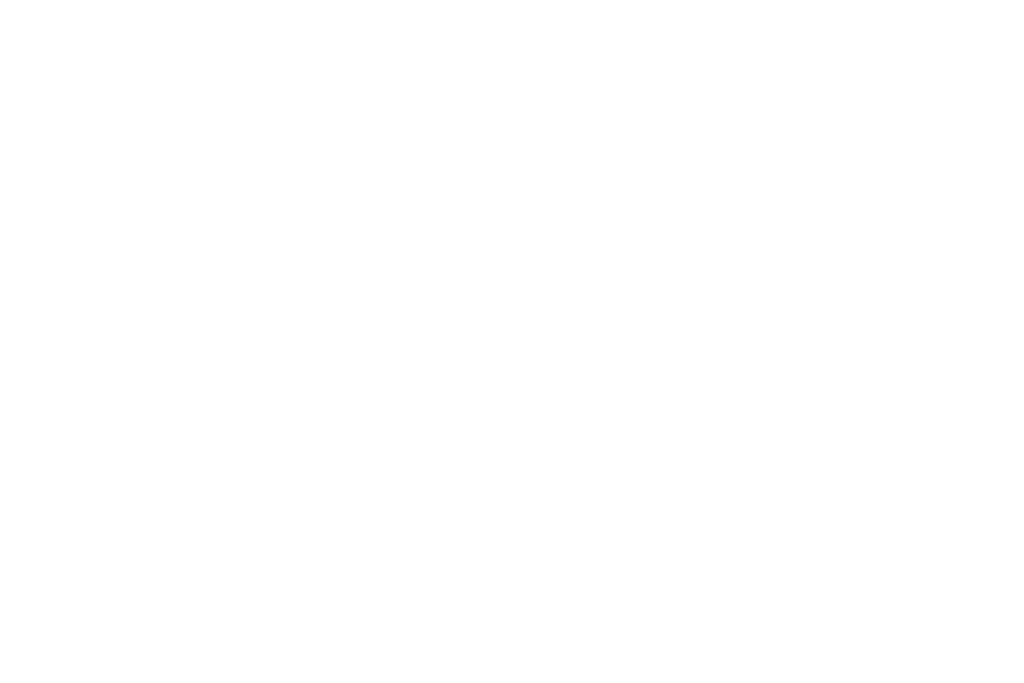
Дневник Анны:
"Сегодня утром я была в "Форуме беженцев" — организации, которая занимается устройством мигрантов. Пошла туда с ослабевшим после болезни Митей, не могла оставить его одного в ночлежке. Шли мы очень долго: уже две недели в Лионе забастовка общественного транспорта, не работают ни автобусы, ни метро. В конце концов Митя устал и запросился на руки. Я взяла такси, сунула под нос таксисту бумажку с адресом, и минут через пятнадцать мы доехали до окраины, где в старом кирпичном здании располагается "Форум". Таксист взял с меня сто франков. Когда возвращались обратно, я поняла, что мы проехали не более километра. Оказывается, лионские таксисты ничем не отличаются от своих московских коллег.
"Форум" был осаждён толпами людей, добивающихся общежития. Большинство из них — с маленькими детьми. Послушав разговоров в толпе, я поняла, что наши шансы переселиться из ночлежки в общежитие равны нулю — почти все беженцы ждут жилья несколько месяцев, приходя отмечаться сюда раз в неделю.
Но самое главное в сегодняшнем дне: мне дают общежитие. Послезавтра мы переселяемся! Девушка, которая приняла нас, сказала, чтобы мы никому из беженцев об этом не рассказывали. Нам, как сказала девушка, в порядке исключения дают быстро, потому что у меня есть все документы. И потому что я мать-одиночка с маленьким ребёнком.
Я встретила там Зину с сыном, наших знакомых по вокзальной ночлежке — им общежития не дали. Она плакала, хотя поначалу была очень энергичной, тискала сына, приговаривая: "Ты мамина радость, мамино счастье!" Мальчик улыбался ямочками на толстых щеках, и картина их счастья заставляла улыбаться пробегавших мимо сотрудников "Форума". Зине посоветовали уехать в Париж и поискать жильё в столице. А я знаю, что в Париже ситуация с беженцами ещё сложнее.
Нам тоже ведь вначале отказали — сказали, что нет мест. Но когда я выходила из кабинета, попросили подождать в коридоре. Я почему-то была уверена, что нам общежитие дадут. А Митя, услышав, что мест нет, упал на пол и закричал: "А-а-а!" Наверное, это атмосфера с плачущими людьми так на него подействовала. Бедный мой ребёнок!..
Скоро Новый год! 2000! Каким он будет для нас?.."
"Сегодня утром я была в "Форуме беженцев" — организации, которая занимается устройством мигрантов. Пошла туда с ослабевшим после болезни Митей, не могла оставить его одного в ночлежке. Шли мы очень долго: уже две недели в Лионе забастовка общественного транспорта, не работают ни автобусы, ни метро. В конце концов Митя устал и запросился на руки. Я взяла такси, сунула под нос таксисту бумажку с адресом, и минут через пятнадцать мы доехали до окраины, где в старом кирпичном здании располагается "Форум". Таксист взял с меня сто франков. Когда возвращались обратно, я поняла, что мы проехали не более километра. Оказывается, лионские таксисты ничем не отличаются от своих московских коллег.
"Форум" был осаждён толпами людей, добивающихся общежития. Большинство из них — с маленькими детьми. Послушав разговоров в толпе, я поняла, что наши шансы переселиться из ночлежки в общежитие равны нулю — почти все беженцы ждут жилья несколько месяцев, приходя отмечаться сюда раз в неделю.
Но самое главное в сегодняшнем дне: мне дают общежитие. Послезавтра мы переселяемся! Девушка, которая приняла нас, сказала, чтобы мы никому из беженцев об этом не рассказывали. Нам, как сказала девушка, в порядке исключения дают быстро, потому что у меня есть все документы. И потому что я мать-одиночка с маленьким ребёнком.
Я встретила там Зину с сыном, наших знакомых по вокзальной ночлежке — им общежития не дали. Она плакала, хотя поначалу была очень энергичной, тискала сына, приговаривая: "Ты мамина радость, мамино счастье!" Мальчик улыбался ямочками на толстых щеках, и картина их счастья заставляла улыбаться пробегавших мимо сотрудников "Форума". Зине посоветовали уехать в Париж и поискать жильё в столице. А я знаю, что в Париже ситуация с беженцами ещё сложнее.
Нам тоже ведь вначале отказали — сказали, что нет мест. Но когда я выходила из кабинета, попросили подождать в коридоре. Я почему-то была уверена, что нам общежитие дадут. А Митя, услышав, что мест нет, упал на пол и закричал: "А-а-а!" Наверное, это атмосфера с плачущими людьми так на него подействовала. Бедный мой ребёнок!..
Скоро Новый год! 2000! Каким он будет для нас?.."
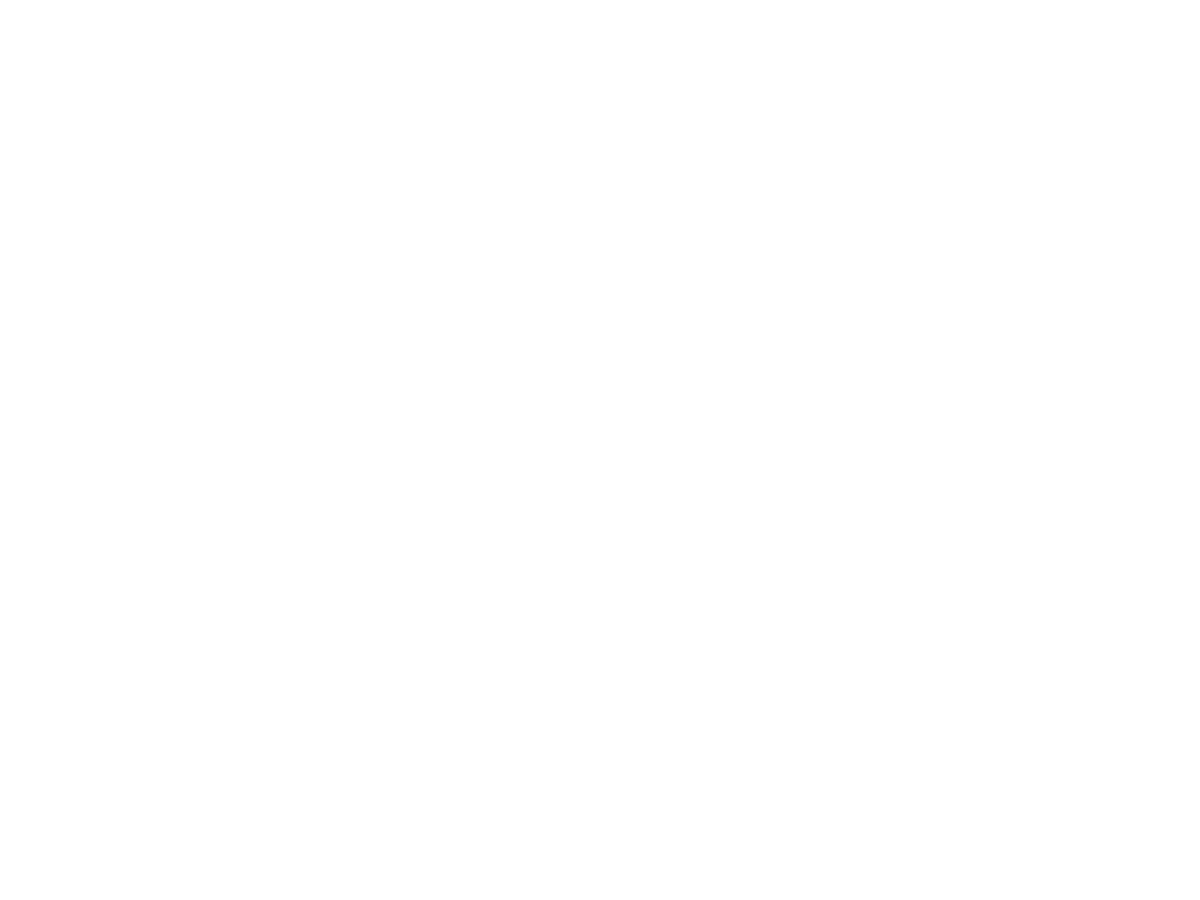
Лион, декабрь 1999 года. Общежитие беженцев
Серый панельный дом в семь этажей, два корпуса. На окнах — железные жалюзи. Дом тонкостенный и ужасно скучный: ни балконов, ни украшений. Но для тех бездомных, кому сюда выдали направление, он кажется тёплым пристанищем в чужой стране. Анна, приближаясь к этому дому с Митей, почувствовала на мгновенье всю горькую бесприютность, густым облаком окружившую этот дом, но, вдохнув её, сразу же внутренне примирилась с ней, чтобы не расплакаться.
Анна с Митей робко вошли в кухню. Все, кто там находились, посмотрели на них. Седой пожилой армянин, сидевший за накрытым столом, приветливо и громко поздоровался с ними:
— А вот и дорогие соседи! Нам вчера в бюро сказали, что придёт русская женщина с ребёнком… Здравствуй, уважаемый! — старик протянул руку Мите. Митя робко подал свою. — Садись со мной рядом, как мужчина с мужчиной. Будешь кушать?.. Асмик, подай тарелку нашему гостю. И вы тоже присаживайтесь к нашему столу, — обратился старый армянин к Анне.
Анна видела, что Митя весь сжимается от громкого голоса мужчины и сердитых, как ему казалось, интонаций. Мальчик уставился на седые пучки волос, видневшиеся на груди из-под майки у старика, ему был страшен их вид.
Анна через силу улыбнулась и сказала:
— Нет, спасибо, мы не будем вам мешать, мы только что пришли. У нас вещи ещё не разобраны... И надо успеть купить разного…
— Что вы хотите купить? — приветливо вмешалась пожилая армянка, Асмик, жена старика. Кажется, она понимала состояние Анны.
— Посуду.
— Какую?
— Тарелки, ложки, вилки, кастрюлю...
— Слушай, кастрюлю не покупай в магазине, там дорого, — женщина коснулась руки Анны. — Там сорок франков маленькая кастрюля стоит. Я тебе покажу марше — рынок арабский, там дёшево всё купишь. А пока я тебе дам ложки-вилки и тарелки бумажные. Лишней кастрюли у меня нет, подожди до субботы, когда рынок будет…
— Спасибо, — Анна благодарно улыбнулась ей в ответ.
В маленьких комнатах стояли кровати, маленький шкаф, у входа была мойка и квадратное зеркало над ней. На окнах нет занавесок, стены покрашены жёлтой масляной краской. Пахнет хлоркой. Туалет и душ в конце коридора.
— Мам, это наш домик?
— Да, Митя…
Ребёнок, почувствовав её состояние, подошёл и обнял мать тёплыми ручками.
Лион, общежитие беженцев. 1 января 2000 года
В дверь постучали — стук был требовательным, поэтому Анна, накинув что-то на себя, шаркнула два шага от кровати до двери.
За дверью было безлико улыбающееся лицо Вирджини, работающей в администрации.
— Бонжур, мадам!
— Бонжур... — Анна чувствовала неловкость от своего неумытого лица и неприбранной постели, но пришлось посторониться и пригласить Вирджини войти.
— Мадам Журавлёва, что вы делали вчера ночью? — спросила Вирджини на плохом английском.
Анна ответила ей на таком же плохом французском:
— Встречали Новый год...
— Значит, вы вчера были на втором этаже?
— Была…
— Просим вас пройти в бюро.
— Зачем?
— Соседи со второго этажа пожаловались на то, что ваша компания устроила там шумную пьянку.
— Но это неправда! — Анне не хватало французских слов, пришлось перейти на английский. — На втором этаже две русские семьи организовали встречу Нового года. Когда я была там, никаких проблем с соседями при этом не возникало.
— Во сколько вы ушли?
— В одиннадцать вечера. Мы с сыном спешили на концерт на центральной площади.
— Во сколько вы вернулись?
— В два часа ночи.
— Как же вы добрались?
— Метро работало всю ночь...
— Хорошо, сейчас я спрошу у соседей, которые собрали подписи против вашего "русского вечера".
Приведя себя в порядок, Анна постучала к соседям: Алексею и Оксане, которые всё утро ссорились за стеной.
— Что вы вчера такого натворили?
Лёха, русский алмаатинец с резкими скулами и смугловатым цветом лица, нервно хихикнул:
— Хохлов залез на албанский холодильник и помочился оттуда. Выгонят теперь, что ли?..
Его беременная жена молча вышла из комнаты.
Серый панельный дом в семь этажей, два корпуса. На окнах — железные жалюзи. Дом тонкостенный и ужасно скучный: ни балконов, ни украшений. Но для тех бездомных, кому сюда выдали направление, он кажется тёплым пристанищем в чужой стране. Анна, приближаясь к этому дому с Митей, почувствовала на мгновенье всю горькую бесприютность, густым облаком окружившую этот дом, но, вдохнув её, сразу же внутренне примирилась с ней, чтобы не расплакаться.
Анна с Митей робко вошли в кухню. Все, кто там находились, посмотрели на них. Седой пожилой армянин, сидевший за накрытым столом, приветливо и громко поздоровался с ними:
— А вот и дорогие соседи! Нам вчера в бюро сказали, что придёт русская женщина с ребёнком… Здравствуй, уважаемый! — старик протянул руку Мите. Митя робко подал свою. — Садись со мной рядом, как мужчина с мужчиной. Будешь кушать?.. Асмик, подай тарелку нашему гостю. И вы тоже присаживайтесь к нашему столу, — обратился старый армянин к Анне.
Анна видела, что Митя весь сжимается от громкого голоса мужчины и сердитых, как ему казалось, интонаций. Мальчик уставился на седые пучки волос, видневшиеся на груди из-под майки у старика, ему был страшен их вид.
Анна через силу улыбнулась и сказала:
— Нет, спасибо, мы не будем вам мешать, мы только что пришли. У нас вещи ещё не разобраны... И надо успеть купить разного…
— Что вы хотите купить? — приветливо вмешалась пожилая армянка, Асмик, жена старика. Кажется, она понимала состояние Анны.
— Посуду.
— Какую?
— Тарелки, ложки, вилки, кастрюлю...
— Слушай, кастрюлю не покупай в магазине, там дорого, — женщина коснулась руки Анны. — Там сорок франков маленькая кастрюля стоит. Я тебе покажу марше — рынок арабский, там дёшево всё купишь. А пока я тебе дам ложки-вилки и тарелки бумажные. Лишней кастрюли у меня нет, подожди до субботы, когда рынок будет…
— Спасибо, — Анна благодарно улыбнулась ей в ответ.
В маленьких комнатах стояли кровати, маленький шкаф, у входа была мойка и квадратное зеркало над ней. На окнах нет занавесок, стены покрашены жёлтой масляной краской. Пахнет хлоркой. Туалет и душ в конце коридора.
— Мам, это наш домик?
— Да, Митя…
Ребёнок, почувствовав её состояние, подошёл и обнял мать тёплыми ручками.
Лион, общежитие беженцев. 1 января 2000 года
В дверь постучали — стук был требовательным, поэтому Анна, накинув что-то на себя, шаркнула два шага от кровати до двери.
За дверью было безлико улыбающееся лицо Вирджини, работающей в администрации.
— Бонжур, мадам!
— Бонжур... — Анна чувствовала неловкость от своего неумытого лица и неприбранной постели, но пришлось посторониться и пригласить Вирджини войти.
— Мадам Журавлёва, что вы делали вчера ночью? — спросила Вирджини на плохом английском.
Анна ответила ей на таком же плохом французском:
— Встречали Новый год...
— Значит, вы вчера были на втором этаже?
— Была…
— Просим вас пройти в бюро.
— Зачем?
— Соседи со второго этажа пожаловались на то, что ваша компания устроила там шумную пьянку.
— Но это неправда! — Анне не хватало французских слов, пришлось перейти на английский. — На втором этаже две русские семьи организовали встречу Нового года. Когда я была там, никаких проблем с соседями при этом не возникало.
— Во сколько вы ушли?
— В одиннадцать вечера. Мы с сыном спешили на концерт на центральной площади.
— Во сколько вы вернулись?
— В два часа ночи.
— Как же вы добрались?
— Метро работало всю ночь...
— Хорошо, сейчас я спрошу у соседей, которые собрали подписи против вашего "русского вечера".
Приведя себя в порядок, Анна постучала к соседям: Алексею и Оксане, которые всё утро ссорились за стеной.
— Что вы вчера такого натворили?
Лёха, русский алмаатинец с резкими скулами и смугловатым цветом лица, нервно хихикнул:
— Хохлов залез на албанский холодильник и помочился оттуда. Выгонят теперь, что ли?..
Его беременная жена молча вышла из комнаты.
Дневник Анны:
"Длинные коридоры, маленькие комнатки с железными дверями, туалет и душ в конце коридора. Пахнет средством для чистки мусоропровода. На кухне толстая негритянка Магорит делает причёску молодой соседке. Они переговариваются на своём негладком наречии, и слышатся в их булькающих гортанных звуках мягкие шаги носорогов по песку и полёт орла над саванной. Африка: Айболит, больные слонята, тигрята… Во Франции на каждом шагу — фотоплакаты чернокожих детей, высохших от голода, с адресами и счетами благотворительных ассоциаций. Это гуманно, это сентиментально, но как-то поверхностно и напоказ. Расизм наоборот — к неграм на Западе относятся… как к братьям меньшим.
В этот обшарпанный самодельный салон причёсок на кухне заглянула и Вирджини. Она что-то сказала парикмахерше и её клиентке, затем постучала в комнату к Алексею и Оксане. Негритянки начали смеяться. Смеялись долго, громко. Все женщины на кухне были недовольны этими громкими всхлипами и выкриками, но никто ничего не сказал — все будут терпеть, чтоб не получилось какого-нибудь скандала.
Я вспомнила, что Блонди, социальный психолог, мне рассказала, что африканцы никогда не плачут — они смеются. Нервная система у них так устроена, что именно через смех им легче выплеснуть свои отрицательные эмоции...
— Сейчас им попадёт, что на общей кухне волосы красят, — мотнула головой в сторону негритянок Линда, моя ближайшая соседка по коридору справа — и я поняла, что Линда их не любит".
"Длинные коридоры, маленькие комнатки с железными дверями, туалет и душ в конце коридора. Пахнет средством для чистки мусоропровода. На кухне толстая негритянка Магорит делает причёску молодой соседке. Они переговариваются на своём негладком наречии, и слышатся в их булькающих гортанных звуках мягкие шаги носорогов по песку и полёт орла над саванной. Африка: Айболит, больные слонята, тигрята… Во Франции на каждом шагу — фотоплакаты чернокожих детей, высохших от голода, с адресами и счетами благотворительных ассоциаций. Это гуманно, это сентиментально, но как-то поверхностно и напоказ. Расизм наоборот — к неграм на Западе относятся… как к братьям меньшим.
В этот обшарпанный самодельный салон причёсок на кухне заглянула и Вирджини. Она что-то сказала парикмахерше и её клиентке, затем постучала в комнату к Алексею и Оксане. Негритянки начали смеяться. Смеялись долго, громко. Все женщины на кухне были недовольны этими громкими всхлипами и выкриками, но никто ничего не сказал — все будут терпеть, чтоб не получилось какого-нибудь скандала.
Я вспомнила, что Блонди, социальный психолог, мне рассказала, что африканцы никогда не плачут — они смеются. Нервная система у них так устроена, что именно через смех им легче выплеснуть свои отрицательные эмоции...
— Сейчас им попадёт, что на общей кухне волосы красят, — мотнула головой в сторону негритянок Линда, моя ближайшая соседка по коридору справа — и я поняла, что Линда их не любит".
Вирджини вышла из комнаты Алексея и Оксаны и направилась к Анне.
— Мадам Журавлёва, соседи со второго этажа подтвердили ваши слова, к вам они не имеют никаких претензий.
Вечером Анна зашла к Оксане. Та кормила двухлетнего Артура хлопьями в молоке. Артур старательно открывал рот и быстро глотал, почти не пережёвывая. У мальчика такие грустные пронзительные глаза, что Анне всегда хотелось его приласкать и погладить. Она заметила, что подобные чувства этот ребёнок вызывает у многих — Линда и её муж часто зазывают Артура к себе, угощают его сладостями, а их четырехлётний сын Рами ревниво прячет от Артура свои игрушки, надувшись.
Однажды Оксана сказала Артуру:
— Не ходи туда больше, не нужно.
Послушный Артур отказался на следующий день брать печенья у Линды, и та сначала обиделась не на шутку, но потом всё же пришла к Анне и попросила передать Оксане, что Артур — запущенный мальчик, ему нужно пройти медицинский осмотр.
— Мадам Журавлёва, соседи со второго этажа подтвердили ваши слова, к вам они не имеют никаких претензий.
Вечером Анна зашла к Оксане. Та кормила двухлетнего Артура хлопьями в молоке. Артур старательно открывал рот и быстро глотал, почти не пережёвывая. У мальчика такие грустные пронзительные глаза, что Анне всегда хотелось его приласкать и погладить. Она заметила, что подобные чувства этот ребёнок вызывает у многих — Линда и её муж часто зазывают Артура к себе, угощают его сладостями, а их четырехлётний сын Рами ревниво прячет от Артура свои игрушки, надувшись.
Однажды Оксана сказала Артуру:
— Не ходи туда больше, не нужно.
Послушный Артур отказался на следующий день брать печенья у Линды, и та сначала обиделась не на шутку, но потом всё же пришла к Анне и попросила передать Оксане, что Артур — запущенный мальчик, ему нужно пройти медицинский осмотр.
Дневник Анны:
"В общежитии у беженцев из разных стран появляется вдруг очень сильное чувство ранимости и обидчивости. Дискомфортные ли условия тому причиной, оторванность от всей своей прежней жизни или чувства попрошайки, которому из милости дали угол и пропитание — беженцы очень болезненно реагируют на любую мелочь, которая никого не задела бы в обычной жизни.
Гиперчувствительность развивается даже у самых простых людей, радующихся первое время дармовому пайку, цивилизованному жилью и небольшому денежному пособию. Я видела албанские семьи, похожие обличьем на персонажей Босха — изуродованные войной или ненавистью лица, выхолощенные глаза. И даже эти люди постепенно начинали тосковать и тяготиться своим положением попрошаек без родины".
* * *
— И что сказала вам Вирджини? — спросила Анна у Оксаны.
Оксана на этот раз повернула голову в её сторону и ответила внятно:
— Если пошлют, уйдём отсюда.
— Куда?! Куда ты пойдёшь беременная, да ещё с маленьким ребёнком?!
Оксана презрительно фыркнула — ей эти разумные доводы казались брюзжанием.
Её муж, всё ещё дремавший после вчерашней попойки на кровати в майке и спортивных штанах, успокоил Анну и себя заодно:
— Никуда нас не выселят. Эта ассистентка сказала, что нас просто поругают сегодня в бюро.
"В общежитии у беженцев из разных стран появляется вдруг очень сильное чувство ранимости и обидчивости. Дискомфортные ли условия тому причиной, оторванность от всей своей прежней жизни или чувства попрошайки, которому из милости дали угол и пропитание — беженцы очень болезненно реагируют на любую мелочь, которая никого не задела бы в обычной жизни.
Гиперчувствительность развивается даже у самых простых людей, радующихся первое время дармовому пайку, цивилизованному жилью и небольшому денежному пособию. Я видела албанские семьи, похожие обличьем на персонажей Босха — изуродованные войной или ненавистью лица, выхолощенные глаза. И даже эти люди постепенно начинали тосковать и тяготиться своим положением попрошаек без родины".
* * *
— И что сказала вам Вирджини? — спросила Анна у Оксаны.
Оксана на этот раз повернула голову в её сторону и ответила внятно:
— Если пошлют, уйдём отсюда.
— Куда?! Куда ты пойдёшь беременная, да ещё с маленьким ребёнком?!
Оксана презрительно фыркнула — ей эти разумные доводы казались брюзжанием.
Её муж, всё ещё дремавший после вчерашней попойки на кровати в майке и спортивных штанах, успокоил Анну и себя заодно:
— Никуда нас не выселят. Эта ассистентка сказала, что нас просто поругают сегодня в бюро.
Дневник Анны:
"Брезгливость к неудачникам. Я встречала это в России, теперь вижу здесь.
С такой же брезгливостью я сама отношусь к бомжам и наркоманам. Мне кажется, что человек всё-таки отвечает за свою судьбу. Я — тоже отвечаю. А если этот водитель своей судьбы не может справиться с управлением, то другим приходится останавливаться и тащить бедолагу на обочину, чтоб не мешал движению... Всем ясно, что его песенка спета, и никто не станет разбираться в причинах аварии — тормоза у него отказали или пострадал по своей дурости, сев пьяным за руль..."
* * *
— Ты опять куришь? — спросила Линда, невысокая, смуглая, с короткой стрижкой и маленькими усиками над верхней губой, входя в свою комнату с полными сумками.
Омар смотрел телевизор. Рами сидел рядом с ним, с презрением посмотрев на вошедшую мать, копируя отца.
— Я никогда и не собирался бросать курить, — Омар был не в духе.
— Омар, ты забыл, что в Ираке у нас долгов на десять тысяч долларов?
— Когда получим паспорт, пойдём работать… за год расплатимся.
— А если нам не дадут паспорт? Если нам скажут: убирайтесь в свой Ирак?
— Тогда, — начал заводиться Омар, — мы решим, что будем делать. А сейчас не нужно плакать заранее, как та глупая молодка у неразбитого еще кувшина.
Рами молча наблюдал за этой сценой. Он не привык к громким голосам — его родители никогда раньше не ссорились при нём.
Омар достал сигарету, щёлкнул зажигалкой — его руки тряслись, жилы на худой шее посинели и вздулись.
— Отстань от меня, ты меня замучила, я не могу уже так жить, мне нечем дышать рядом с тобой! — закричал вдруг он.
Линда выбежала из комнаты. Прячась от любопытных взглядов на кухне, она постучала к русской соседке.
Анна слышала через стену эту ссору на непонятном языке, поэтому с сочувствием смотрела на заплаканную Линду.
— Он не понимает меня, не хочет понять! Живёт так, будто мы дома, — по-английски заговорила Линда. — Мы уехали из Ирака, заняв большие деньги на визу и билеты... Если мы не вернём, то долг ляжет на мою мать и сестёр. Я ему об этом говорю, а он всё равно каждый день покупает пачку за тридцать франков! — Линда плакала, её рябое лицо было непривычно жалким. — Мы должны сейчас экономить: если нам не дадут статус беженцев, нам придётся уехать в Германию! Нам там нужны будут деньги…
Дневник Анны:
"Здесь все друг друга спрашивают, кто и по какой причине попал сюда. Но я обычно никогда и никого не спрашиваю — неудобно слушать, как человек заученным тоном начинает рассказывать легенду. Особенно неловко расспрашивать соотечественников из бывших советских республик. Продав квартиры в Узбекистане, Казахстане, Прибалтике, русские люди ехали в Москву, отстаивали многочасовые очереди, чтобы услышать резюме, что в их случае статус беженца не предоставляется. Помыкавшись по друзьям и родственникам, русские всеми правдами и неправдами стремились уехать за границу. Сочиняли немыслимые легенды — преследование со стороны чеченцев, российских властей, новых русских, наркомафии... Как потом выяснилось, удачнее всего выходило с преследованием по религиозным или сексуальным причинам. Я знаю соотечественника-гомосексуалиста, который, получив статус, вызвал свою нормальную, как оказалось, семью, встречала и убеждённых советских атеистов, ставших во Франции активными посетителями церквей пятидесятников и иеговистов."
* * *
Линда внимательно посмотрела на неё:
— Мы приехали, потому что мы христиане, в Багдаде за это могут посадить в тюрьму или даже убить.
— Если у вас такая серьёзная причина, вам обязательно дадут статус, — убеждённо сказала Анна. — Не нужно паниковать раньше времени, а то можно себя довести до ручки.
— А почему приехали вы? — спросила Линда.
Анна коротко рассказала, что она журналистка, работала в Прибалтике, что после раскола СССР ей не дали российского гражданства…
Линда понимающе кивнула. Ей уже хотелось вернуться к мужу и сыну, приготовить обед.
Анне тоже нужно было приготовить поесть — Митя уже несколько раз забегал в комнату, просил печенье или яблочко.
Дневник Анны:
"Приготовить обед на общей кухне, где представлены почти все национальные кухни мира, где негритянки стоят подолгу у двух моек, наслаждаясь водой, просто так бегущей из крана, где невозможно перекинуться словом с соседками — это маленькое ежедневное испытание. Тут ещё и дети, которые постоянно ссорятся и которых надо разнимать с улыбкой, контролируя свои жесты, мимику, тональность голоса.
Чтоб немного разнообразить безрадостные будни жителей общежития, администрация придумывает различные мероприятия. Люди идут на них неохотно, с усталостью, понимая при этом, что нужно идти и улыбаться.
Одно из мероприятий называется "Сёстры по кухне": женщины из разных стран вместе готовят свои национальные блюда, а потом угощают друг друга. Чувствуешь себя жертвой каких-то насильственных манипуляций — эта акция так и не смогла сдружить сербок с косоварками или облегчить внутренний страх перед будущим, который держал всех этих людей. Но нужно было идти на кухню, готовить и пробовать чужие блюда и приветливо улыбаться при этом.
Догадывается ли бюро, что нам это неприятно, неинтересно и даже отвратительно?"
* * *
Всем обитателям общежития запрещалось завтракать, обедать и ужинать в комнатах. Говорили, что это из страха перед тараканами. При всём страхе нарушить дисциплину и быть вызванным на беседу, никто всё-таки не ел на общей кухне. Только новоприбывшие, получив строгую инструкцию о правилах поведения в общежитии, поглощали свою трапезу в первый день в одиночестве на неуютной кухне, но уже на второй день, подсмотрев негласный порядок, уносили кастрюли и сковородки по комнатам, закрывшись из предосторожности на ключ.
Русский гармонист
Он играл на центральной улице старого Лиона, напоминающей московский Арбат. Было холодно, гармонисту пришлось надеть вязаные перчатки с отрезанными пальцами — самодельные митенки, которые любят надевать во время работы рыночные торговки. Тепло и деньги считать удобно.
Крепкий осанистый мужчина играл на аккордеоне "Лебединое озеро", "Полёт шмеля", "Очи чёрные" — жарил без остановки. Рядом стояла коробка для денег. Анна дала монетку Мите и попросила:
— Положи в коробку.
Мужчина, продолжая играть, спросил у неё:
— Из России, что ль?
— Да.
— Недавно приехали?
— Месяц назад.
— Лица ещё не поменялись… — Мужчина мотнул головой. — А я уже три недели тут играю. Скоро домой, слава богу!
— А вы где живёте?
— В Ярославле.
— Приехали сюда играть?
— Да, я уже пять лет езжу. Зимой — на Рождество… Ну и летом… У меня летом отпуск всегда...
— Вы очень хорошо играете, — искренне сказала Анна.
— Я же профессиональный музыкант. Преподаватель в музучилище, лауреат конкурсов. У дочки свадьба скоро, деньги нужны. Я всегда по две недели работал тут, а в этот раз решил на три остаться. Ох, как же надоело уже. Да и холодно в этом году… — и он заиграл что-то меланхолическое и грустное.
Дама, согнутая от старости, с тростью, но с ярким макияжем, бросила в коробку монетку.
— Мерси, мадам! — поклонился ей музыкант и крикнул в спину: — Специаль пур ву! — растянув меха и куражисто объявив на всю улицу: — "Очи чёрные"!
Молодой полицейский обернулся на крик и внимательно посмотрел на музыканта.
— Чё смотришь! На цыган лучше посмотри! — огрызнулся тот, продолжая томить душу слушателей медленным вступлением знаменитого романса. "Очи чёрные", исполняемые со всей страстью истосковавшегося по семье, замёрзшего на французской улице русского человека, сорвали аплодисменты. Несколько слушателей выразили своё восхищение негромкими хлопками.
— Вы их разбередили, — сказала Анна.
— Да их разбередишь! Хлопают ушами, а денег не дают. Всё, перекур! —эффектно закруглив, он снял с себя ремни аккордеона, сложил его в чехол и полез в карман китайского пуховика за сигаретами.
Когда он освободился, оказалось, что им и говорить-то не о чем. Чем могут помочь друг другу два русских человека на французской улице?..
— Мы пойдём, сын замёрз, — сказала Анна.
— Ага, идите, — кивнул музыкант. — Всего хорошего вам тут!
— Вам тоже…
* * *
Из бесед Анны с социальным психоаналитиком Бландин Берже:
— Какая ассоциация возникает у вас при слове "Россия"?
— Женщина, мать, любовь, равнодушие, брошенные дети, слёзы.
— Какой образ вы могли бы из этих ассоциаций собрать?
— Россия — многодетная мать, деревенская женщина, у которой столько забот, что ей не до своих детей. Она красивая и сильная, а мы её дети — нездоровые, слабые. Она не докармливает нас.
— Какие чувства у вас возникают при этой картинке?
— Любовь и обида.
— Какая ассоциация возникает у вас при слове "мужчина"?
— Предательство, слабость, предательство.
— Какой образ вы могли бы из этих слов собрать?
— Предатель, который выдал Зою Космодемьянскую.
— А кто это — Зая Казмаденска?..
— Это... Это я.
— Какие чувства у вас вызывает эта картинка?
— Я хочу отомстить предателю.
— Что вы хотели с ним сделать, была бы ваша воля?
— Поместить в полное одиночество, забвение.
— Ваш муж вам изменял?
— Он рисовал обнажённых натурщиц.
— Какие ассоциации вызывает у вас слово Франция?
— Эдит Пиаф, сигарета, бистро, франки, свободная любовь.
— Какой образ вы могли бы из этого сложить?
— Увядающая дама с бойкими манерами угощает в бистро мачо.
— Какие чувства вызывает у вас эта картинка?
— Брезгливость и тоску.
— Почему? Вам кажется, что эта ситуация — против ваших убеждений?
— А какой смысл французы вкладывают в слово "убеждения"?
— Вам кажется, что в России в это слово вкладывается другой смысл?
— В России люди ради убеждений могут, например, бросить любимую работу. А во Франции могут?..
Дневник Анны:
"Страдание на лицах людей здесь, на Западе. Они хорошо одеты, у многих есть что-то интересное в лицах: индивидуальность, индивидуализм. Они вежливы, не толкаются, не ругаются, улыбаются, когда говорят пардон, но при этом на их лицах усталая обречённость.
Витрины бутиков, салонов красоты, рекламные афиши — всё сверкает, манит, дразнит запредельным уровнем цен и качества. В одежде, выставленной на манекенах, чувствуется бестрепетная рука дизайнера. На эти одёжки можно смотреть… как на шедевры в музеях. Весь творческий потенциал человечества сегодня идёт на то, чтобы ублажить тело: косметика, одежда, обувь, реклама салонов красоты. На целую улицу бутиков ни одного книжного магазина. Каков спрос, таково и предложение. Хотя представлены в достаточных количествах газетные киоски с порнографическими журналами, обложки которых в увеличенном виде рекламируются у входа на огромных щитах, мимо которых спокойно идут прохожие с детьми...
Благодаря мифу о француженках, подпитанному пикантностью анекдотов и окружённому непробиваемой стеной стереотипов, они всегда казались остроумными, элегантными, не теряющими чувства собственного достоинства ни при каких обстоятельствах. В реальности многое оказалось не так. Француженки, надо сказать, большей частью некрасивы, но никто из них не комплексует по этому поводу. Как будто у каждой дурнушки есть свой секрет, который выделяет её из общего круга. Русские женщины должны поучиться ценить себя, как ценит, например, наша уборщица Жаннет.
— Жаннет, бонжур! — кричат дети худой, чуть нервной в движениях уборщице, которая вначале улыбается, но потом строго просит детей разойтись и не мешать ей.
Когда она, напевая, моет пол или протирает стены, даже взрослые обитатели общежитских этажей стараются не показываться Жаннет на глаза. Она никогда не повысит голоса, но во взгляде её зеленых глаз есть некая магнетическая сила, заставляющая выполнять её просьбы без слов.
Рассказывали, что в прошлом Жаннет была наездницей на ипподроме, но, получив травму, вынуждена была покинуть любимую работу, и теперь работает уборщицей, чтобы вырастить сына-подростка.
У Жаннет есть машина, на которой она приезжает с утра на работу. Не могу себе представить русскую уборщицу, разъезжающую на авто последней модели.
Пообщавшись с Жаннет, которая с уважением относится к своему делу, я вспомнила русских уборщиц и нянечек — озверелых от постоянного презрения, выказываемого им окружающими.
— Ходють и ходють!.. — ворчит тетка, намывая пол в русском туалете.
В чём их различие? Мне кажется, разница в том, что для французов работа — лишь способ получить достаточно средств на жизнь. А в России работа — это сама жизнь и есть. Вот в чём большая свобода французов — в творческом отношении к своей жизни."
Из письма Анны к маме:
"Мамочка, знаю, что ты беспокоишься, но не всегда получается звонить так же часто, как я думаю о вас. Буду чаще писать.
Мы живём хорошо. Здоровье, питание, одежда — всё нормально. Ответа на нашу просьбу о статусе пока нет.
Мне часто снится наш дом — сегодня опять приснился. Пустой, вещи вынесены, и я всё время пытаюсь кому-то доказать, что этот дом — мой. И во сне уже знаю, что там другая хозяйка.
Мне жалко тот чайный сервиз, который ты мне подарила. Он был уютный. И какой-то оптимистичный.
Но больше всего — до слёз, до сердцебиения, до боли — бывает жалко, когда вспоминаю книги, которые там остались. У меня здесь нет книг, чтобы читать Мите — я ему рассказываю по памяти: про Алису, про Карлсона, который живёт на крыше… Я никогда не думала, что вещи и книги при расставании причиняют такую боль.
Я иногда думаю: те наши русские белоэмигранты, которые уезжали сюда после революции, они ведь теряли не просто книги и красивую посуду, они оставляли навсегда в России жизнь всех предшествующих поколений, с галереями семейных портретов, со старинными книгами, с прадедушкиными пометками на полях… Боже мой, как это непредставимо трагично, как огромна, оказывается, их потеря! Прервать такую цепь времён… Кому это было нужно?"
Дневник Анны:
"Небо здесь другое. Цвет отличается на пол-тона, и для такого огромного пространства этого, оказывается, достаточно, чтобы возникло ощущение другого неба…
Не зная французского языка, лишённая вербального средства общения, я стала замечать, что все другие органы реагирования на окружающую действительность у меня обострились: например, я стала острее чувствовать запахи. Даже интуиция активнее работает вместе с обонянием. Иногда мне кажется, что я сейчас воспринимаю людей — как в детстве — по ощущению, принимая тончайшие токи информации, исходящие от них.
Вчера в автобусе почувствовала жизнь пожилой дамы, с её умеренной скаредностью, внуками, приезжающими в гости к бабушке на Рождество, небольшим чистеньким домиком, приходящей уборщицей, скукой одинокой жизни и запахом старости, который будет всё усиливаться.
Пожилой худощавый месье — запах холодных измен жене.
Школьница арабка — запах крепкой семейной сцепки, жизненный оптимизм, привлекательный защищённостью своих представлений.
Вот так и тренирую свою интуицию, не имея возможности проверить результаты своих опытов..."
Хохловы
Русских в общежитии было не так много, как албанцев или армян, например. Русские не кучковались, не собирались в землячество и часто ссорились между собой. Случались даже драки с мордобитиями и вызовом полиции. Однажды молодой полицейский долго не мог понять, что два русских мужика подрались именно друг с другом, и всё спрашивал у вахтёра:
— А с кем подрались эти русские?
Он, видно, был новенький, этот полицейский.
Хохловых в общежитии не любили.
Почему и как в среде русских обитателей возникали эти волны общей нелюбви — понять вообще было трудно. А насчёт Хохловых — особенно.
Молодые румяные молодожёны приехали во Францию из Пскова, серьёзно заразившись мечтой о красивой жизни на Западе. Лёша Хохлов гонял из Франции в Россию подержанные иномарки. Ему тут нравилось многое, включая возможность оторваться от родителей жены, с которыми они прожили в одной квартире три года, потеряв надежду на обретение собственного жилья.
Поговорив с русскими беженцами во Франции во время последней поездки в Лион, Лёша разузнал, что нужно придумать хорошую легенду для досье политического беженца и подкрепить её документами. Устным рассказам в министерстве по приёму иностранцев-беженцев в Париже никто бы не поверил.
Военных призывников из их города в то время брали служить в Чечню, потому Лёшин тесть, небольшой чин из городского военкомата, сделал ему повестку на призыв в армию. Эта повестка, а также заверенные нотариусом показания соседей, утверждавших, что Алексей Хохлов был задержан милицией за свой отказ служить в армии, были, по его мнению, козырями в его политическом досье.
Приехав в Лион по туристической визе, Хохловы поселились в гостинице, за которую они платили лишь первую неделю. Затем Лёша Хохлов, зная, что из-за наступающих холодов их не имеют права выселить на улицу, пошёл к администратору и объяснил, что больше платить не будет: они политические беженцы и сдаются властям. Их не трогали почти два месяца, добившись в итоге для них места в общежитии "Форума".
Заселившись в общежитие, Хохловы пошли знакомиться с русскими. Анна видела, что им обоим бесприютно здесь, в чужой стране.
В гостях у Анны они всегда сидели, будто стесняясь самих себя, положив руки на колени.
— Я вот о чём беспокоюсь, — начинал неторопливый разбор деталей Лёша. — Вот спросят меня — а как я узнал-то, что меня именно в Чечню берут? Чего я им скажу?...
— Скажи, что всех из Пскова в Чечню в тот год посылали, — подсказывала Анна.
Помогая Хохловым составить правдоподобную легенду, она поймала себя на том, что не испытывает никаких угрызений совести. Здесь, в пристанище отверженных, менялись взгляды на порядочность и предательство, и Анна помогала этим молодым русским, решившимся уехать на Запад во что бы то ни стало. Не ей судить их.
— А что ты сюда книг русских натащила? Так ты французский никогда не выучишь, — резонно, с нажимом спрашивал её Лёша Хохлов, и Анна вдруг начинала чуть ли не оправдываться, не желая спорить с его посконной правотой.
— А знаешь, что мне вчера болгарин переводчик сказал? Сказал, что зря я такую легенду придумал себе. Что во Франции дезертиров не любят...
Дневник Анны:
"Хохловы за драку на Новый год были переведены в другое фойе, а когда через некоторое время я случайно встретила их на празднике, то не узнала — худощавый молодой парень превратился в кряжистого мужика с крепкой холкой. Его голубые, немного выцветшие глаза сегодня смотрят на мир с тоской человека, потерявшего свою мечту. Хотя вряд ли он в скором времени признается самому себе, что оказался банкротом, поставив в жизни не на ту карту. Получив то, о чём мечталось в юности там, в России, на маленькой тёщиной кухне — сытую жизнь, жильё во Франции, машину, Хохлов где-то сильно промахнулся, чего-то не рассчитал в своих добротно скроенных жизненных планах."
Драка с негром
После обеда Анна выводила Митьку в небольшой скверик возле общежития, на детскую площадку. Пока он катался с горки и лазил по лестницам, Анна пыталась читать книгу, которую нашла в библиотеке: Чехов, "Дама с собачкой". Ничего другого из русской литературы не было. Служитель муниципальной библиотеки на хорошем английском объяснил ей, что несколько лет назад в центральной библиотеке была богатая коллекция русских классиков и современников, но два года назад пожар уничтожил очень много ценных книг, в том числе и русский отдел.
Читая Чехова, она никак не могла вжиться в интригу курортного романа — таким наивным ей казалось то время, те люди и их страсти. Анна подняла голову — над ней было сероватое зимнее небо. Она смотрела на кусты и деревья, на маленькую дорожку между ними — и её вдруг охватил детский восторг: она же во Франции! Кажется, сейчас прискачут мушкетёры и храбрый галантный офицер протянет ей руку...
— Мама! — закричал Митя.
Оказывается, сын подрался с чернокожим сверстником, к тому уже спешил на помощь его разъярённый папаша. Анна бросилась к сыну и успела схватить его на руки, когда к ним подбежал негр и что-то начал доказывать Анне, толкая её в плечо кулаком. При этом он выкрикивал одно и то же слово, которое звучало во влажном воздухе как некое дикарское заклинание:
— Овегуно!.. Овегуно!..
Она, прикрывая Митьку, повернулась к негру спиной, тут же получив порцию ударов по спине и по голове. Спустив перепуганного Митю на землю, она крикнула:
— Беги, позови кого-нибудь!
К ним уже сбегались люди. Негр вошёл в раж и не мог остановиться, удары его становились всё сильнее. Он показался Анне сумасшедшим — на его губах выступила пена, а глаза побагровели.
Среди зрителей она увидела Алексея с Оксаной, прогуливавших в колясочке Артура; мелькнули лица знакомых армян из общежития, растаяв в толпе.
Когда из бюро прибежали Вирджини и Натали, негр гонялся за Анной и повторял всё то же "овегуно". Его с трудом остановили сотрудники бюро, схватив за руки. Только теперь Анна по-настоящему испугалась.
Натали, заместитель главного администратора, после короткого выяснения сказала Анне, что бюро обязательно разберётся в случившемся и накажет виновника неприятного инцидента.
Когда Анна с Митькой вернулись домой, ей ужасно хотелось плакать, но, успокоившись, она умылась, подкрасилась, и они отправились к Марине, её грузинской подруге, жившей с пятилетним сыном на третьем этаже.
Марина была полной молодой женщиной с тёмными пушистыми усиками и низким голосом. Она могла круглосуточно сидеть у телевизора в своей комнате, сопровождая все передачи ехидными замечаниями на тему внешности телеведущих. Анна познакомилась с Мариной в первый же день перед дверью бюро, где они обе, уставшие от скитаний, ожидали решения своей участи. Во время тогдашнего разговора выяснилось, что у Марины и Анны есть общие знакомые в Тбилиси, поэтому они стали почти подругами. А их дети так сдружились, что однажды Митя подошёл к Анне и сказал задумчиво:
— Знаешь, мам, всё-таки мне нравится Шако…
— Почему? — не особенно внимательно поинтересовалась Анна.
Митька задумался на мгновение и ответил:
— Он не подлец!
Сейчас в комнате у Марины было несколько её соплеменников. Все сидели у богато накрытого стола и пили кофе, варить который Марина была великая мастерица. Увидев Анну, Марина протрубила на всю комнату:
— Ну что, уже начала драться с черномазыми?!.
Анна, насупившись, молча села за стол. Один из пожилых мужчин вдруг сказал ей:
— Извините, что мы не заступились за вас в парке. Нас бы тогда всех выгнали из этого общежития…
Анна, не сдержавшись, начала плакать, пока Марина пыталась исправить ситуацию, объясняя:
— Это же было так смешно, когда маленький негритос за тобой, высокой и красивой русской госпожой, гонялся вокруг клумбы!..
Никто так и не засмеялся, а Анна продолжала плакать, размазывала тушь по лицу, на что Марина, чувствуя себя неловко, вдруг крикнула:
— А знаете, что мой сын мне сказал на днях?..
Все повернулись к ней — Шако здесь баловали, скучая по своим детям на родине.
— Сижу я утром и пью кофе. Горячий — только что сварила. А сын проснулся и спрашивает, не вылезая из кровати: "Мама, кто такие проститутки?"
— Я чуть этим самым кофе не подавилась!.. Говорю ему, что, мол, проститутки — это те, кто пьёт вино, курит сигареты… И мой бедный сын с ужасом посмотрел на меня: "Значит, ты уже начинаешь!"
Все в комнате засмеялись, а один из гостей подозвал Шако и дал ему десять франков, погладив по голове.
Через некоторое время, когда Анна собралась уходить, всё тот же пожилой грузин, начавший разговор о драке, отвёл её в сторону и сказал:
— Понимаете, важно, как вы сами принимаете всё это. Если вам кажется, что вас унизили, то так будут думать и все остальные. Вы должны просто понять для себя, что за вами гонялась бешеная обезьяна… и вашей вины в этом нет. Никто ведь не презирает человека, на которого напали в лесу волки или медведи. Или даже крупная человекообразная обезьяна, — подмигнул он ей.
Каникулы
Бесснежная зима плавно перешла в дождливую весну, без русских оттепелей и ледоходов. Только резкий ветер ночами рвал металлические ставни на окнах.
Однажды утром к Анне пришла Алис, худенькая смуглая армянка, француженка в первом поколении. Она начала работать в бюро недавно и очень старалась произвести хорошее впечатление.
— Бонжур, мадам Журавлёва. Как дела?.. Мы организовываем каникулы для детей, вывозим их на две недели в центр отдыха. А заодно и вы немного отдохнёте, заведёте себе друга… Вы ведь красивая молодая женщина… Как вам эта идея? — она улыбнулась и стала похожа на армянскую девочку, спрятавшую подарок под фартучком.
— Я бы не хотела отпускать Митю одного. Он ведь ещё не очень хорошо говорит по-французски.
— Вот и научится. Вы же с ним постоянно говорите на русском, как же ему научиться-то?
— Понимаете, Алис, он пережил разлуку с отцом… Я думаю, что он ещё не готов уехать отдыхать без меня.
— Мадам Журавлёва, — повысила голос Алис, — этот вопрос не обсуждается. Все дети буду вывезены на отдых! — Аккуратная армянская девочка была разобижена тем, что её подарок оказался не нужен.
— Ну а если я против?
— Заселяясь в это общежитие, вы подписали контракт. Вы обещали соблюдать правила нашего центра. Поэтому не в ваших интересах сейчас устраивать такие забастовки.
Через два дня к фойе подъехали два огромных автобуса. Орущие возбуждённые дети, провожаемые родителями, заскакивали в автобус и толкались там за место у окна. Митя стоял бледный и молчаливый, он держал в одной руке пакет с одеждой на две недели, в другой — леденец на палочке. Анна чувствовала, как ему страшно сейчас уезжать от неё. Она подошла к Франку, шефу бюро, и попросила его:
— Франк, пожалуйста, разрешите моему сыну остаться со мной…
Франк, ровесник Анны, всегда хорошо одетый, в отличие от других сотрудников бюро, как будто почувствовал её состояние. Он обернулся, поискал глазами Алис и попросил её подойти к ним.
— Алис, мадам Журавлёва просит оставить её сына в общежитии.
— Но это невозможно, Франк, — быстро ответила Алиса, улыбаясь шефу и не посмотрев на Анну. — Мы оплатили отдых для семидесяти трёх детей. И все они должны ехать. Почему для мадам Журавлёвой нужно делать исключение?
Франк пожал плечами:
— Я ничего не могу сделать. Но это не так трагично, как вам кажется. Всего две недели...
Когда автобусы отъезжали, Анна увидела в окне заплаканное лицо сына и помахала ему рукой.
Вернувшись в пустую комнату, она пыталась найти себе занятие, но потом пришла Марина, и они отправились погулять в центр города — Анне было всё равно, лишь бы не сидеть одной.
На третий день после отъезда детей к ней пришла Алис.
— Бонжур, мадам Журавлёва! Что ж, вашего сына везут обратно. Он устроил там голодную забастовку!
— Как это?
— Он ничего не ел, мадам Журавлёва!
Митю привезли худого и бледного, с выпирающими рёбрами и позвонками. Он оживлённо рассказывал о том, как его пытались кормить силой, запихивая в него еду, а он всё выплевывал обратно. Анна мыла его в душе и не могла сдержать слёз.
Из письма Анны:
"В общежитие вчера поступила новая партия беженцев — албанцы, боснийцы, цыгане. Когда их расселили по этажам и комнатам, женщины тут же принялись мыть стены и полы в чистых пустых комнатах, а мужчины пошли по этажам, знакомиться с земляками. Они выспрашивают полезную информацию о магазинах и рынках, где можно купить старую хозяйственную утварь и одежду, узнают цены на продукты питания, осведомляются о возможностях найти работу. Землячества помогают новеньким, делясь ценной информацией, которая позволяет новоприбывшим экономить средства. Русские таких сообществ не создают, предпочитая оставаться без помощи, лишь бы не быть в системе.
Как только албанцы заселились, в общежитии стало тесно, шумно, дымно — мужчины курят и ведут свои неторопливые беседы, а женщины постоянно толкутся на кухне — готовят национальные блюда из муки и фарша. Я посмотрела: на сковороду льётся жидкое тесто, на него высыпается негустым слоем сырой фарш, все это стоит на медленном огне, и минуты через две опять заливается новым слоем жидкого теста, на который насыпается горсть фарша. Другая женщина, из Боснии, готовит какую-то необыкновенную слоёную пиццу со шпинатом. Она занимает весь стол, разложив на нём огромный лист дрожжевого теста, потом растягивает тесто в тоненькую полупрозрачную паутинку, укладывая её замысловатыми слоями в горячий противень, перемежая тесто нарезанными листьями шпината. Наверное, эта невысокая складная женщина в цветной косынке и спортивных штанах настоящая мастерица такой пиццы — все албанки столпились вокруг неё, желая поучиться кулинарным приёмам.
Албанцы обживаются на новом месте: ходят друг к другу в гости, застилают полы коврами, которые приносят с городской свалки. Кстати, адрес этой свалки хранится албанцами в большом секрете и передаётся только своим, как секретный код. Говорят, что на этих свалках можно поживиться выброшенными телевизорами, холодильниками, велосипедами, сумками-тележками. Починив эту рухлядь, албанцы пытаются её продать своим непрактичным соседям — тем же самым русским, например.
Дети, почти все, с плохими зубами. Война виновата или экономия на зубной пасте, но как только видишь ребёнка с почерневшими полусгнившими зубами — это маленький албанец.
Сегодня на кухне было шумно. Старый худой цыган с серьгой в ухе и грязным платком на жилистой петушиной шее поучил свою жену, накрашенную пожилую цыганку в длинной тёмной юбке. Она подала ему какое-то блюдо, а ему не понравилось — и из-за этого, напоказ, при всём честном народе цыган избил цыганку. По-моему, он остался доволен созданной им мизансценой: жена плачет, вокруг неё толпа женщин, его уводят к кому-то в комнату выпить кофе и расслабиться в мужской беседе. Албанки при этом пересмеивались, подталкивая друг друга в бока. Избитую мне было жалко… Я сказала ей что-то утешающее. Слов она не поняла, но сквозь слёзы посмотрела на меня с благодарностью.
Вчера ночью несколько албанцев пошли грабить контейнеры с одеждой, которую собирают для отправки в зоны бедствия. Один из них запрыгнул в такой контейнер и начал выбрасывать тряпки на улицу своим компаньонам. Тут подошла полиция и забрала тех двоих в участок. Третий же просидел всю ночь и полдня в контейнере, потому что устройство этого железного ящика таково, что он не открывается изнутри."
* * *
Вскоре новоприбывшие албанцы прочно обосновались возле телевизора в вестибюле, завладев пультом, переключая программы и освистывая скучные на их взгляд политические передачи или фильмы. Однажды вечером, проходя через вестибюль, Анна была застигнута волной радости, криками и свистом — по теленовостям показывали сюжет натовской бомбардировки Белграда. Сюжет был сделан сербскими журналистами — и камера подробно зафиксировала трупы детей, женщин. Один из кадров был особенно радостно встречен албанскими беженцами, на нём была мёртвая беременная сербка с торчащим из живота куском железа. Албанцы плясали от радости, шумели так, что арабы с первого этажа начали выходить в коридор и ругаться на своём каркающем языке.
Иногда у Анны оставалось только одно желание в этом разноязычном огромном доме: вернуться поскорее в свою комнату, закрыть дверь, упасть на колени и закричать: "Господи Всемогущий, я не могу больше!" — прислушиваясь к тишине и понимая, что ответа нет.
Письмо Анны:
"Мама, здравствуй!
Ты просила написать о нашем здоровье. Я решила рассказать тебе подробно о французской медицине, чтоб ты не беспокоилась о нас.
Через два дня после заселения в общежитие нам дали временные медицинские страховки. Эти страховки обеспечивали наши первые анализы крови, медосмотры и прививки. После всех этих процедур нам должны оформить постоянные страховки. Франция — это, кажется, единственная страна Европы, где действует бесплатное медстрахование. Наверное, в этом есть разумный расчёт избежать эпидемий и больных беженцев, кашляющих микробами на порядочных французов.
Мите сразу же назначили возрастную прививку — сложную, от четырёх болезней сразу. Когда я привела его в медицинский кабинет, там уже дожидались своей прививки наша соседка Линда с четырехлётним сыном Рами. Первыми вошли в кабинет Линда с сыном, и через минуты три мы услышали леденящий кровь вопль Рами. Митя забеспокоился:
— Разве прививка — это больно? — спросил он меня.
— Не очень, мне ведь тоже скоро будут делать прививку — успокаивала его я.
Мадам доктор, суховатая женщина лет пятидесяти, была очарована Митей. Когда я, отвечая на её вопросы о развитии ребёнка, сказала, что мы отказались от памперсов в три месяца, потому что он начал проситься на горшок сам, она попросила подробнее рассказать, как это он просился — ведь в три месяца дети не могу выражать словами свои желания. Во Франции сегодня проблема — отучить ребёнка от памперсов, потому что дети не контролируют свои нужды.
Когда же пришла очередь прививки, Митька мой зажмурился, напрягся и вытерпел боль без крика. Докторша сказала, что этот укол очень болезненный, и она не видела ещё ни одного пятилетнего ребёнка, который бы не плакал при этом.
Митя перенёс эту прививку очень тяжело — к вечеру у него поднялась температура, он весь горел. Если бы то же самое не происходило в соседней комнате с Рами, я бы испугалась и потребовала бы вызвать врача. Но Линда, она была медсестрой, меня успокоила, сказав, что эта прививка всегда тяжело переносится детьми. Митя болел три дня, он бредил ночами, просыпался и много пил. Но сегодня уже лучше — температура спала, хоть он бледный и ничего не ест. Я покупаю ему любимый вишнёвый компот и свежую малину, но он их не ест, только пробует всё на вкус.
Со мной дело обстояло проще — у меня взяли кровь на гепатит, СПИД, сифилис, ещё какие-то болезни, которые, как мне сказали в госпитале, находят у семидесяти процентов беженцев из Африки…
Дописываю это письмо через два дня. Пришёл ответ на мою кровь: ни СПИДа, ни сифилиса, ни гепатита нет в моей кровушке. Немного низкий гемоглобин.
Митя уже бегает по коридорам вместе с Рами. Так что не беспокойся за нас".
"Брезгливость к неудачникам. Я встречала это в России, теперь вижу здесь.
С такой же брезгливостью я сама отношусь к бомжам и наркоманам. Мне кажется, что человек всё-таки отвечает за свою судьбу. Я — тоже отвечаю. А если этот водитель своей судьбы не может справиться с управлением, то другим приходится останавливаться и тащить бедолагу на обочину, чтоб не мешал движению... Всем ясно, что его песенка спета, и никто не станет разбираться в причинах аварии — тормоза у него отказали или пострадал по своей дурости, сев пьяным за руль..."
* * *
— Ты опять куришь? — спросила Линда, невысокая, смуглая, с короткой стрижкой и маленькими усиками над верхней губой, входя в свою комнату с полными сумками.
Омар смотрел телевизор. Рами сидел рядом с ним, с презрением посмотрев на вошедшую мать, копируя отца.
— Я никогда и не собирался бросать курить, — Омар был не в духе.
— Омар, ты забыл, что в Ираке у нас долгов на десять тысяч долларов?
— Когда получим паспорт, пойдём работать… за год расплатимся.
— А если нам не дадут паспорт? Если нам скажут: убирайтесь в свой Ирак?
— Тогда, — начал заводиться Омар, — мы решим, что будем делать. А сейчас не нужно плакать заранее, как та глупая молодка у неразбитого еще кувшина.
Рами молча наблюдал за этой сценой. Он не привык к громким голосам — его родители никогда раньше не ссорились при нём.
Омар достал сигарету, щёлкнул зажигалкой — его руки тряслись, жилы на худой шее посинели и вздулись.
— Отстань от меня, ты меня замучила, я не могу уже так жить, мне нечем дышать рядом с тобой! — закричал вдруг он.
Линда выбежала из комнаты. Прячась от любопытных взглядов на кухне, она постучала к русской соседке.
Анна слышала через стену эту ссору на непонятном языке, поэтому с сочувствием смотрела на заплаканную Линду.
— Он не понимает меня, не хочет понять! Живёт так, будто мы дома, — по-английски заговорила Линда. — Мы уехали из Ирака, заняв большие деньги на визу и билеты... Если мы не вернём, то долг ляжет на мою мать и сестёр. Я ему об этом говорю, а он всё равно каждый день покупает пачку за тридцать франков! — Линда плакала, её рябое лицо было непривычно жалким. — Мы должны сейчас экономить: если нам не дадут статус беженцев, нам придётся уехать в Германию! Нам там нужны будут деньги…
Дневник Анны:
"Здесь все друг друга спрашивают, кто и по какой причине попал сюда. Но я обычно никогда и никого не спрашиваю — неудобно слушать, как человек заученным тоном начинает рассказывать легенду. Особенно неловко расспрашивать соотечественников из бывших советских республик. Продав квартиры в Узбекистане, Казахстане, Прибалтике, русские люди ехали в Москву, отстаивали многочасовые очереди, чтобы услышать резюме, что в их случае статус беженца не предоставляется. Помыкавшись по друзьям и родственникам, русские всеми правдами и неправдами стремились уехать за границу. Сочиняли немыслимые легенды — преследование со стороны чеченцев, российских властей, новых русских, наркомафии... Как потом выяснилось, удачнее всего выходило с преследованием по религиозным или сексуальным причинам. Я знаю соотечественника-гомосексуалиста, который, получив статус, вызвал свою нормальную, как оказалось, семью, встречала и убеждённых советских атеистов, ставших во Франции активными посетителями церквей пятидесятников и иеговистов."
* * *
Линда внимательно посмотрела на неё:
— Мы приехали, потому что мы христиане, в Багдаде за это могут посадить в тюрьму или даже убить.
— Если у вас такая серьёзная причина, вам обязательно дадут статус, — убеждённо сказала Анна. — Не нужно паниковать раньше времени, а то можно себя довести до ручки.
— А почему приехали вы? — спросила Линда.
Анна коротко рассказала, что она журналистка, работала в Прибалтике, что после раскола СССР ей не дали российского гражданства…
Линда понимающе кивнула. Ей уже хотелось вернуться к мужу и сыну, приготовить обед.
Анне тоже нужно было приготовить поесть — Митя уже несколько раз забегал в комнату, просил печенье или яблочко.
Дневник Анны:
"Приготовить обед на общей кухне, где представлены почти все национальные кухни мира, где негритянки стоят подолгу у двух моек, наслаждаясь водой, просто так бегущей из крана, где невозможно перекинуться словом с соседками — это маленькое ежедневное испытание. Тут ещё и дети, которые постоянно ссорятся и которых надо разнимать с улыбкой, контролируя свои жесты, мимику, тональность голоса.
Чтоб немного разнообразить безрадостные будни жителей общежития, администрация придумывает различные мероприятия. Люди идут на них неохотно, с усталостью, понимая при этом, что нужно идти и улыбаться.
Одно из мероприятий называется "Сёстры по кухне": женщины из разных стран вместе готовят свои национальные блюда, а потом угощают друг друга. Чувствуешь себя жертвой каких-то насильственных манипуляций — эта акция так и не смогла сдружить сербок с косоварками или облегчить внутренний страх перед будущим, который держал всех этих людей. Но нужно было идти на кухню, готовить и пробовать чужие блюда и приветливо улыбаться при этом.
Догадывается ли бюро, что нам это неприятно, неинтересно и даже отвратительно?"
* * *
Всем обитателям общежития запрещалось завтракать, обедать и ужинать в комнатах. Говорили, что это из страха перед тараканами. При всём страхе нарушить дисциплину и быть вызванным на беседу, никто всё-таки не ел на общей кухне. Только новоприбывшие, получив строгую инструкцию о правилах поведения в общежитии, поглощали свою трапезу в первый день в одиночестве на неуютной кухне, но уже на второй день, подсмотрев негласный порядок, уносили кастрюли и сковородки по комнатам, закрывшись из предосторожности на ключ.
Русский гармонист
Он играл на центральной улице старого Лиона, напоминающей московский Арбат. Было холодно, гармонисту пришлось надеть вязаные перчатки с отрезанными пальцами — самодельные митенки, которые любят надевать во время работы рыночные торговки. Тепло и деньги считать удобно.
Крепкий осанистый мужчина играл на аккордеоне "Лебединое озеро", "Полёт шмеля", "Очи чёрные" — жарил без остановки. Рядом стояла коробка для денег. Анна дала монетку Мите и попросила:
— Положи в коробку.
Мужчина, продолжая играть, спросил у неё:
— Из России, что ль?
— Да.
— Недавно приехали?
— Месяц назад.
— Лица ещё не поменялись… — Мужчина мотнул головой. — А я уже три недели тут играю. Скоро домой, слава богу!
— А вы где живёте?
— В Ярославле.
— Приехали сюда играть?
— Да, я уже пять лет езжу. Зимой — на Рождество… Ну и летом… У меня летом отпуск всегда...
— Вы очень хорошо играете, — искренне сказала Анна.
— Я же профессиональный музыкант. Преподаватель в музучилище, лауреат конкурсов. У дочки свадьба скоро, деньги нужны. Я всегда по две недели работал тут, а в этот раз решил на три остаться. Ох, как же надоело уже. Да и холодно в этом году… — и он заиграл что-то меланхолическое и грустное.
Дама, согнутая от старости, с тростью, но с ярким макияжем, бросила в коробку монетку.
— Мерси, мадам! — поклонился ей музыкант и крикнул в спину: — Специаль пур ву! — растянув меха и куражисто объявив на всю улицу: — "Очи чёрные"!
Молодой полицейский обернулся на крик и внимательно посмотрел на музыканта.
— Чё смотришь! На цыган лучше посмотри! — огрызнулся тот, продолжая томить душу слушателей медленным вступлением знаменитого романса. "Очи чёрные", исполняемые со всей страстью истосковавшегося по семье, замёрзшего на французской улице русского человека, сорвали аплодисменты. Несколько слушателей выразили своё восхищение негромкими хлопками.
— Вы их разбередили, — сказала Анна.
— Да их разбередишь! Хлопают ушами, а денег не дают. Всё, перекур! —эффектно закруглив, он снял с себя ремни аккордеона, сложил его в чехол и полез в карман китайского пуховика за сигаретами.
Когда он освободился, оказалось, что им и говорить-то не о чем. Чем могут помочь друг другу два русских человека на французской улице?..
— Мы пойдём, сын замёрз, — сказала Анна.
— Ага, идите, — кивнул музыкант. — Всего хорошего вам тут!
— Вам тоже…
* * *
Из бесед Анны с социальным психоаналитиком Бландин Берже:
— Какая ассоциация возникает у вас при слове "Россия"?
— Женщина, мать, любовь, равнодушие, брошенные дети, слёзы.
— Какой образ вы могли бы из этих ассоциаций собрать?
— Россия — многодетная мать, деревенская женщина, у которой столько забот, что ей не до своих детей. Она красивая и сильная, а мы её дети — нездоровые, слабые. Она не докармливает нас.
— Какие чувства у вас возникают при этой картинке?
— Любовь и обида.
— Какая ассоциация возникает у вас при слове "мужчина"?
— Предательство, слабость, предательство.
— Какой образ вы могли бы из этих слов собрать?
— Предатель, который выдал Зою Космодемьянскую.
— А кто это — Зая Казмаденска?..
— Это... Это я.
— Какие чувства у вас вызывает эта картинка?
— Я хочу отомстить предателю.
— Что вы хотели с ним сделать, была бы ваша воля?
— Поместить в полное одиночество, забвение.
— Ваш муж вам изменял?
— Он рисовал обнажённых натурщиц.
— Какие ассоциации вызывает у вас слово Франция?
— Эдит Пиаф, сигарета, бистро, франки, свободная любовь.
— Какой образ вы могли бы из этого сложить?
— Увядающая дама с бойкими манерами угощает в бистро мачо.
— Какие чувства вызывает у вас эта картинка?
— Брезгливость и тоску.
— Почему? Вам кажется, что эта ситуация — против ваших убеждений?
— А какой смысл французы вкладывают в слово "убеждения"?
— Вам кажется, что в России в это слово вкладывается другой смысл?
— В России люди ради убеждений могут, например, бросить любимую работу. А во Франции могут?..
Дневник Анны:
"Страдание на лицах людей здесь, на Западе. Они хорошо одеты, у многих есть что-то интересное в лицах: индивидуальность, индивидуализм. Они вежливы, не толкаются, не ругаются, улыбаются, когда говорят пардон, но при этом на их лицах усталая обречённость.
Витрины бутиков, салонов красоты, рекламные афиши — всё сверкает, манит, дразнит запредельным уровнем цен и качества. В одежде, выставленной на манекенах, чувствуется бестрепетная рука дизайнера. На эти одёжки можно смотреть… как на шедевры в музеях. Весь творческий потенциал человечества сегодня идёт на то, чтобы ублажить тело: косметика, одежда, обувь, реклама салонов красоты. На целую улицу бутиков ни одного книжного магазина. Каков спрос, таково и предложение. Хотя представлены в достаточных количествах газетные киоски с порнографическими журналами, обложки которых в увеличенном виде рекламируются у входа на огромных щитах, мимо которых спокойно идут прохожие с детьми...
Благодаря мифу о француженках, подпитанному пикантностью анекдотов и окружённому непробиваемой стеной стереотипов, они всегда казались остроумными, элегантными, не теряющими чувства собственного достоинства ни при каких обстоятельствах. В реальности многое оказалось не так. Француженки, надо сказать, большей частью некрасивы, но никто из них не комплексует по этому поводу. Как будто у каждой дурнушки есть свой секрет, который выделяет её из общего круга. Русские женщины должны поучиться ценить себя, как ценит, например, наша уборщица Жаннет.
— Жаннет, бонжур! — кричат дети худой, чуть нервной в движениях уборщице, которая вначале улыбается, но потом строго просит детей разойтись и не мешать ей.
Когда она, напевая, моет пол или протирает стены, даже взрослые обитатели общежитских этажей стараются не показываться Жаннет на глаза. Она никогда не повысит голоса, но во взгляде её зеленых глаз есть некая магнетическая сила, заставляющая выполнять её просьбы без слов.
Рассказывали, что в прошлом Жаннет была наездницей на ипподроме, но, получив травму, вынуждена была покинуть любимую работу, и теперь работает уборщицей, чтобы вырастить сына-подростка.
У Жаннет есть машина, на которой она приезжает с утра на работу. Не могу себе представить русскую уборщицу, разъезжающую на авто последней модели.
Пообщавшись с Жаннет, которая с уважением относится к своему делу, я вспомнила русских уборщиц и нянечек — озверелых от постоянного презрения, выказываемого им окружающими.
— Ходють и ходють!.. — ворчит тетка, намывая пол в русском туалете.
В чём их различие? Мне кажется, разница в том, что для французов работа — лишь способ получить достаточно средств на жизнь. А в России работа — это сама жизнь и есть. Вот в чём большая свобода французов — в творческом отношении к своей жизни."
Из письма Анны к маме:
"Мамочка, знаю, что ты беспокоишься, но не всегда получается звонить так же часто, как я думаю о вас. Буду чаще писать.
Мы живём хорошо. Здоровье, питание, одежда — всё нормально. Ответа на нашу просьбу о статусе пока нет.
Мне часто снится наш дом — сегодня опять приснился. Пустой, вещи вынесены, и я всё время пытаюсь кому-то доказать, что этот дом — мой. И во сне уже знаю, что там другая хозяйка.
Мне жалко тот чайный сервиз, который ты мне подарила. Он был уютный. И какой-то оптимистичный.
Но больше всего — до слёз, до сердцебиения, до боли — бывает жалко, когда вспоминаю книги, которые там остались. У меня здесь нет книг, чтобы читать Мите — я ему рассказываю по памяти: про Алису, про Карлсона, который живёт на крыше… Я никогда не думала, что вещи и книги при расставании причиняют такую боль.
Я иногда думаю: те наши русские белоэмигранты, которые уезжали сюда после революции, они ведь теряли не просто книги и красивую посуду, они оставляли навсегда в России жизнь всех предшествующих поколений, с галереями семейных портретов, со старинными книгами, с прадедушкиными пометками на полях… Боже мой, как это непредставимо трагично, как огромна, оказывается, их потеря! Прервать такую цепь времён… Кому это было нужно?"
Дневник Анны:
"Небо здесь другое. Цвет отличается на пол-тона, и для такого огромного пространства этого, оказывается, достаточно, чтобы возникло ощущение другого неба…
Не зная французского языка, лишённая вербального средства общения, я стала замечать, что все другие органы реагирования на окружающую действительность у меня обострились: например, я стала острее чувствовать запахи. Даже интуиция активнее работает вместе с обонянием. Иногда мне кажется, что я сейчас воспринимаю людей — как в детстве — по ощущению, принимая тончайшие токи информации, исходящие от них.
Вчера в автобусе почувствовала жизнь пожилой дамы, с её умеренной скаредностью, внуками, приезжающими в гости к бабушке на Рождество, небольшим чистеньким домиком, приходящей уборщицей, скукой одинокой жизни и запахом старости, который будет всё усиливаться.
Пожилой худощавый месье — запах холодных измен жене.
Школьница арабка — запах крепкой семейной сцепки, жизненный оптимизм, привлекательный защищённостью своих представлений.
Вот так и тренирую свою интуицию, не имея возможности проверить результаты своих опытов..."
Хохловы
Русских в общежитии было не так много, как албанцев или армян, например. Русские не кучковались, не собирались в землячество и часто ссорились между собой. Случались даже драки с мордобитиями и вызовом полиции. Однажды молодой полицейский долго не мог понять, что два русских мужика подрались именно друг с другом, и всё спрашивал у вахтёра:
— А с кем подрались эти русские?
Он, видно, был новенький, этот полицейский.
Хохловых в общежитии не любили.
Почему и как в среде русских обитателей возникали эти волны общей нелюбви — понять вообще было трудно. А насчёт Хохловых — особенно.
Молодые румяные молодожёны приехали во Францию из Пскова, серьёзно заразившись мечтой о красивой жизни на Западе. Лёша Хохлов гонял из Франции в Россию подержанные иномарки. Ему тут нравилось многое, включая возможность оторваться от родителей жены, с которыми они прожили в одной квартире три года, потеряв надежду на обретение собственного жилья.
Поговорив с русскими беженцами во Франции во время последней поездки в Лион, Лёша разузнал, что нужно придумать хорошую легенду для досье политического беженца и подкрепить её документами. Устным рассказам в министерстве по приёму иностранцев-беженцев в Париже никто бы не поверил.
Военных призывников из их города в то время брали служить в Чечню, потому Лёшин тесть, небольшой чин из городского военкомата, сделал ему повестку на призыв в армию. Эта повестка, а также заверенные нотариусом показания соседей, утверждавших, что Алексей Хохлов был задержан милицией за свой отказ служить в армии, были, по его мнению, козырями в его политическом досье.
Приехав в Лион по туристической визе, Хохловы поселились в гостинице, за которую они платили лишь первую неделю. Затем Лёша Хохлов, зная, что из-за наступающих холодов их не имеют права выселить на улицу, пошёл к администратору и объяснил, что больше платить не будет: они политические беженцы и сдаются властям. Их не трогали почти два месяца, добившись в итоге для них места в общежитии "Форума".
Заселившись в общежитие, Хохловы пошли знакомиться с русскими. Анна видела, что им обоим бесприютно здесь, в чужой стране.
В гостях у Анны они всегда сидели, будто стесняясь самих себя, положив руки на колени.
— Я вот о чём беспокоюсь, — начинал неторопливый разбор деталей Лёша. — Вот спросят меня — а как я узнал-то, что меня именно в Чечню берут? Чего я им скажу?...
— Скажи, что всех из Пскова в Чечню в тот год посылали, — подсказывала Анна.
Помогая Хохловым составить правдоподобную легенду, она поймала себя на том, что не испытывает никаких угрызений совести. Здесь, в пристанище отверженных, менялись взгляды на порядочность и предательство, и Анна помогала этим молодым русским, решившимся уехать на Запад во что бы то ни стало. Не ей судить их.
— А что ты сюда книг русских натащила? Так ты французский никогда не выучишь, — резонно, с нажимом спрашивал её Лёша Хохлов, и Анна вдруг начинала чуть ли не оправдываться, не желая спорить с его посконной правотой.
— А знаешь, что мне вчера болгарин переводчик сказал? Сказал, что зря я такую легенду придумал себе. Что во Франции дезертиров не любят...
Дневник Анны:
"Хохловы за драку на Новый год были переведены в другое фойе, а когда через некоторое время я случайно встретила их на празднике, то не узнала — худощавый молодой парень превратился в кряжистого мужика с крепкой холкой. Его голубые, немного выцветшие глаза сегодня смотрят на мир с тоской человека, потерявшего свою мечту. Хотя вряд ли он в скором времени признается самому себе, что оказался банкротом, поставив в жизни не на ту карту. Получив то, о чём мечталось в юности там, в России, на маленькой тёщиной кухне — сытую жизнь, жильё во Франции, машину, Хохлов где-то сильно промахнулся, чего-то не рассчитал в своих добротно скроенных жизненных планах."
Драка с негром
После обеда Анна выводила Митьку в небольшой скверик возле общежития, на детскую площадку. Пока он катался с горки и лазил по лестницам, Анна пыталась читать книгу, которую нашла в библиотеке: Чехов, "Дама с собачкой". Ничего другого из русской литературы не было. Служитель муниципальной библиотеки на хорошем английском объяснил ей, что несколько лет назад в центральной библиотеке была богатая коллекция русских классиков и современников, но два года назад пожар уничтожил очень много ценных книг, в том числе и русский отдел.
Читая Чехова, она никак не могла вжиться в интригу курортного романа — таким наивным ей казалось то время, те люди и их страсти. Анна подняла голову — над ней было сероватое зимнее небо. Она смотрела на кусты и деревья, на маленькую дорожку между ними — и её вдруг охватил детский восторг: она же во Франции! Кажется, сейчас прискачут мушкетёры и храбрый галантный офицер протянет ей руку...
— Мама! — закричал Митя.
Оказывается, сын подрался с чернокожим сверстником, к тому уже спешил на помощь его разъярённый папаша. Анна бросилась к сыну и успела схватить его на руки, когда к ним подбежал негр и что-то начал доказывать Анне, толкая её в плечо кулаком. При этом он выкрикивал одно и то же слово, которое звучало во влажном воздухе как некое дикарское заклинание:
— Овегуно!.. Овегуно!..
Она, прикрывая Митьку, повернулась к негру спиной, тут же получив порцию ударов по спине и по голове. Спустив перепуганного Митю на землю, она крикнула:
— Беги, позови кого-нибудь!
К ним уже сбегались люди. Негр вошёл в раж и не мог остановиться, удары его становились всё сильнее. Он показался Анне сумасшедшим — на его губах выступила пена, а глаза побагровели.
Среди зрителей она увидела Алексея с Оксаной, прогуливавших в колясочке Артура; мелькнули лица знакомых армян из общежития, растаяв в толпе.
Когда из бюро прибежали Вирджини и Натали, негр гонялся за Анной и повторял всё то же "овегуно". Его с трудом остановили сотрудники бюро, схватив за руки. Только теперь Анна по-настоящему испугалась.
Натали, заместитель главного администратора, после короткого выяснения сказала Анне, что бюро обязательно разберётся в случившемся и накажет виновника неприятного инцидента.
Когда Анна с Митькой вернулись домой, ей ужасно хотелось плакать, но, успокоившись, она умылась, подкрасилась, и они отправились к Марине, её грузинской подруге, жившей с пятилетним сыном на третьем этаже.
Марина была полной молодой женщиной с тёмными пушистыми усиками и низким голосом. Она могла круглосуточно сидеть у телевизора в своей комнате, сопровождая все передачи ехидными замечаниями на тему внешности телеведущих. Анна познакомилась с Мариной в первый же день перед дверью бюро, где они обе, уставшие от скитаний, ожидали решения своей участи. Во время тогдашнего разговора выяснилось, что у Марины и Анны есть общие знакомые в Тбилиси, поэтому они стали почти подругами. А их дети так сдружились, что однажды Митя подошёл к Анне и сказал задумчиво:
— Знаешь, мам, всё-таки мне нравится Шако…
— Почему? — не особенно внимательно поинтересовалась Анна.
Митька задумался на мгновение и ответил:
— Он не подлец!
Сейчас в комнате у Марины было несколько её соплеменников. Все сидели у богато накрытого стола и пили кофе, варить который Марина была великая мастерица. Увидев Анну, Марина протрубила на всю комнату:
— Ну что, уже начала драться с черномазыми?!.
Анна, насупившись, молча села за стол. Один из пожилых мужчин вдруг сказал ей:
— Извините, что мы не заступились за вас в парке. Нас бы тогда всех выгнали из этого общежития…
Анна, не сдержавшись, начала плакать, пока Марина пыталась исправить ситуацию, объясняя:
— Это же было так смешно, когда маленький негритос за тобой, высокой и красивой русской госпожой, гонялся вокруг клумбы!..
Никто так и не засмеялся, а Анна продолжала плакать, размазывала тушь по лицу, на что Марина, чувствуя себя неловко, вдруг крикнула:
— А знаете, что мой сын мне сказал на днях?..
Все повернулись к ней — Шако здесь баловали, скучая по своим детям на родине.
— Сижу я утром и пью кофе. Горячий — только что сварила. А сын проснулся и спрашивает, не вылезая из кровати: "Мама, кто такие проститутки?"
— Я чуть этим самым кофе не подавилась!.. Говорю ему, что, мол, проститутки — это те, кто пьёт вино, курит сигареты… И мой бедный сын с ужасом посмотрел на меня: "Значит, ты уже начинаешь!"
Все в комнате засмеялись, а один из гостей подозвал Шако и дал ему десять франков, погладив по голове.
Через некоторое время, когда Анна собралась уходить, всё тот же пожилой грузин, начавший разговор о драке, отвёл её в сторону и сказал:
— Понимаете, важно, как вы сами принимаете всё это. Если вам кажется, что вас унизили, то так будут думать и все остальные. Вы должны просто понять для себя, что за вами гонялась бешеная обезьяна… и вашей вины в этом нет. Никто ведь не презирает человека, на которого напали в лесу волки или медведи. Или даже крупная человекообразная обезьяна, — подмигнул он ей.
Каникулы
Бесснежная зима плавно перешла в дождливую весну, без русских оттепелей и ледоходов. Только резкий ветер ночами рвал металлические ставни на окнах.
Однажды утром к Анне пришла Алис, худенькая смуглая армянка, француженка в первом поколении. Она начала работать в бюро недавно и очень старалась произвести хорошее впечатление.
— Бонжур, мадам Журавлёва. Как дела?.. Мы организовываем каникулы для детей, вывозим их на две недели в центр отдыха. А заодно и вы немного отдохнёте, заведёте себе друга… Вы ведь красивая молодая женщина… Как вам эта идея? — она улыбнулась и стала похожа на армянскую девочку, спрятавшую подарок под фартучком.
— Я бы не хотела отпускать Митю одного. Он ведь ещё не очень хорошо говорит по-французски.
— Вот и научится. Вы же с ним постоянно говорите на русском, как же ему научиться-то?
— Понимаете, Алис, он пережил разлуку с отцом… Я думаю, что он ещё не готов уехать отдыхать без меня.
— Мадам Журавлёва, — повысила голос Алис, — этот вопрос не обсуждается. Все дети буду вывезены на отдых! — Аккуратная армянская девочка была разобижена тем, что её подарок оказался не нужен.
— Ну а если я против?
— Заселяясь в это общежитие, вы подписали контракт. Вы обещали соблюдать правила нашего центра. Поэтому не в ваших интересах сейчас устраивать такие забастовки.
Через два дня к фойе подъехали два огромных автобуса. Орущие возбуждённые дети, провожаемые родителями, заскакивали в автобус и толкались там за место у окна. Митя стоял бледный и молчаливый, он держал в одной руке пакет с одеждой на две недели, в другой — леденец на палочке. Анна чувствовала, как ему страшно сейчас уезжать от неё. Она подошла к Франку, шефу бюро, и попросила его:
— Франк, пожалуйста, разрешите моему сыну остаться со мной…
Франк, ровесник Анны, всегда хорошо одетый, в отличие от других сотрудников бюро, как будто почувствовал её состояние. Он обернулся, поискал глазами Алис и попросил её подойти к ним.
— Алис, мадам Журавлёва просит оставить её сына в общежитии.
— Но это невозможно, Франк, — быстро ответила Алиса, улыбаясь шефу и не посмотрев на Анну. — Мы оплатили отдых для семидесяти трёх детей. И все они должны ехать. Почему для мадам Журавлёвой нужно делать исключение?
Франк пожал плечами:
— Я ничего не могу сделать. Но это не так трагично, как вам кажется. Всего две недели...
Когда автобусы отъезжали, Анна увидела в окне заплаканное лицо сына и помахала ему рукой.
Вернувшись в пустую комнату, она пыталась найти себе занятие, но потом пришла Марина, и они отправились погулять в центр города — Анне было всё равно, лишь бы не сидеть одной.
На третий день после отъезда детей к ней пришла Алис.
— Бонжур, мадам Журавлёва! Что ж, вашего сына везут обратно. Он устроил там голодную забастовку!
— Как это?
— Он ничего не ел, мадам Журавлёва!
Митю привезли худого и бледного, с выпирающими рёбрами и позвонками. Он оживлённо рассказывал о том, как его пытались кормить силой, запихивая в него еду, а он всё выплевывал обратно. Анна мыла его в душе и не могла сдержать слёз.
Из письма Анны:
"В общежитие вчера поступила новая партия беженцев — албанцы, боснийцы, цыгане. Когда их расселили по этажам и комнатам, женщины тут же принялись мыть стены и полы в чистых пустых комнатах, а мужчины пошли по этажам, знакомиться с земляками. Они выспрашивают полезную информацию о магазинах и рынках, где можно купить старую хозяйственную утварь и одежду, узнают цены на продукты питания, осведомляются о возможностях найти работу. Землячества помогают новеньким, делясь ценной информацией, которая позволяет новоприбывшим экономить средства. Русские таких сообществ не создают, предпочитая оставаться без помощи, лишь бы не быть в системе.
Как только албанцы заселились, в общежитии стало тесно, шумно, дымно — мужчины курят и ведут свои неторопливые беседы, а женщины постоянно толкутся на кухне — готовят национальные блюда из муки и фарша. Я посмотрела: на сковороду льётся жидкое тесто, на него высыпается негустым слоем сырой фарш, все это стоит на медленном огне, и минуты через две опять заливается новым слоем жидкого теста, на который насыпается горсть фарша. Другая женщина, из Боснии, готовит какую-то необыкновенную слоёную пиццу со шпинатом. Она занимает весь стол, разложив на нём огромный лист дрожжевого теста, потом растягивает тесто в тоненькую полупрозрачную паутинку, укладывая её замысловатыми слоями в горячий противень, перемежая тесто нарезанными листьями шпината. Наверное, эта невысокая складная женщина в цветной косынке и спортивных штанах настоящая мастерица такой пиццы — все албанки столпились вокруг неё, желая поучиться кулинарным приёмам.
Албанцы обживаются на новом месте: ходят друг к другу в гости, застилают полы коврами, которые приносят с городской свалки. Кстати, адрес этой свалки хранится албанцами в большом секрете и передаётся только своим, как секретный код. Говорят, что на этих свалках можно поживиться выброшенными телевизорами, холодильниками, велосипедами, сумками-тележками. Починив эту рухлядь, албанцы пытаются её продать своим непрактичным соседям — тем же самым русским, например.
Дети, почти все, с плохими зубами. Война виновата или экономия на зубной пасте, но как только видишь ребёнка с почерневшими полусгнившими зубами — это маленький албанец.
Сегодня на кухне было шумно. Старый худой цыган с серьгой в ухе и грязным платком на жилистой петушиной шее поучил свою жену, накрашенную пожилую цыганку в длинной тёмной юбке. Она подала ему какое-то блюдо, а ему не понравилось — и из-за этого, напоказ, при всём честном народе цыган избил цыганку. По-моему, он остался доволен созданной им мизансценой: жена плачет, вокруг неё толпа женщин, его уводят к кому-то в комнату выпить кофе и расслабиться в мужской беседе. Албанки при этом пересмеивались, подталкивая друг друга в бока. Избитую мне было жалко… Я сказала ей что-то утешающее. Слов она не поняла, но сквозь слёзы посмотрела на меня с благодарностью.
Вчера ночью несколько албанцев пошли грабить контейнеры с одеждой, которую собирают для отправки в зоны бедствия. Один из них запрыгнул в такой контейнер и начал выбрасывать тряпки на улицу своим компаньонам. Тут подошла полиция и забрала тех двоих в участок. Третий же просидел всю ночь и полдня в контейнере, потому что устройство этого железного ящика таково, что он не открывается изнутри."
* * *
Вскоре новоприбывшие албанцы прочно обосновались возле телевизора в вестибюле, завладев пультом, переключая программы и освистывая скучные на их взгляд политические передачи или фильмы. Однажды вечером, проходя через вестибюль, Анна была застигнута волной радости, криками и свистом — по теленовостям показывали сюжет натовской бомбардировки Белграда. Сюжет был сделан сербскими журналистами — и камера подробно зафиксировала трупы детей, женщин. Один из кадров был особенно радостно встречен албанскими беженцами, на нём была мёртвая беременная сербка с торчащим из живота куском железа. Албанцы плясали от радости, шумели так, что арабы с первого этажа начали выходить в коридор и ругаться на своём каркающем языке.
Иногда у Анны оставалось только одно желание в этом разноязычном огромном доме: вернуться поскорее в свою комнату, закрыть дверь, упасть на колени и закричать: "Господи Всемогущий, я не могу больше!" — прислушиваясь к тишине и понимая, что ответа нет.
Письмо Анны:
"Мама, здравствуй!
Ты просила написать о нашем здоровье. Я решила рассказать тебе подробно о французской медицине, чтоб ты не беспокоилась о нас.
Через два дня после заселения в общежитие нам дали временные медицинские страховки. Эти страховки обеспечивали наши первые анализы крови, медосмотры и прививки. После всех этих процедур нам должны оформить постоянные страховки. Франция — это, кажется, единственная страна Европы, где действует бесплатное медстрахование. Наверное, в этом есть разумный расчёт избежать эпидемий и больных беженцев, кашляющих микробами на порядочных французов.
Мите сразу же назначили возрастную прививку — сложную, от четырёх болезней сразу. Когда я привела его в медицинский кабинет, там уже дожидались своей прививки наша соседка Линда с четырехлётним сыном Рами. Первыми вошли в кабинет Линда с сыном, и через минуты три мы услышали леденящий кровь вопль Рами. Митя забеспокоился:
— Разве прививка — это больно? — спросил он меня.
— Не очень, мне ведь тоже скоро будут делать прививку — успокаивала его я.
Мадам доктор, суховатая женщина лет пятидесяти, была очарована Митей. Когда я, отвечая на её вопросы о развитии ребёнка, сказала, что мы отказались от памперсов в три месяца, потому что он начал проситься на горшок сам, она попросила подробнее рассказать, как это он просился — ведь в три месяца дети не могу выражать словами свои желания. Во Франции сегодня проблема — отучить ребёнка от памперсов, потому что дети не контролируют свои нужды.
Когда же пришла очередь прививки, Митька мой зажмурился, напрягся и вытерпел боль без крика. Докторша сказала, что этот укол очень болезненный, и она не видела ещё ни одного пятилетнего ребёнка, который бы не плакал при этом.
Митя перенёс эту прививку очень тяжело — к вечеру у него поднялась температура, он весь горел. Если бы то же самое не происходило в соседней комнате с Рами, я бы испугалась и потребовала бы вызвать врача. Но Линда, она была медсестрой, меня успокоила, сказав, что эта прививка всегда тяжело переносится детьми. Митя болел три дня, он бредил ночами, просыпался и много пил. Но сегодня уже лучше — температура спала, хоть он бледный и ничего не ест. Я покупаю ему любимый вишнёвый компот и свежую малину, но он их не ест, только пробует всё на вкус.
Со мной дело обстояло проще — у меня взяли кровь на гепатит, СПИД, сифилис, ещё какие-то болезни, которые, как мне сказали в госпитале, находят у семидесяти процентов беженцев из Африки…
Дописываю это письмо через два дня. Пришёл ответ на мою кровь: ни СПИДа, ни сифилиса, ни гепатита нет в моей кровушке. Немного низкий гемоглобин.
Митя уже бегает по коридорам вместе с Рами. Так что не беспокойся за нас".
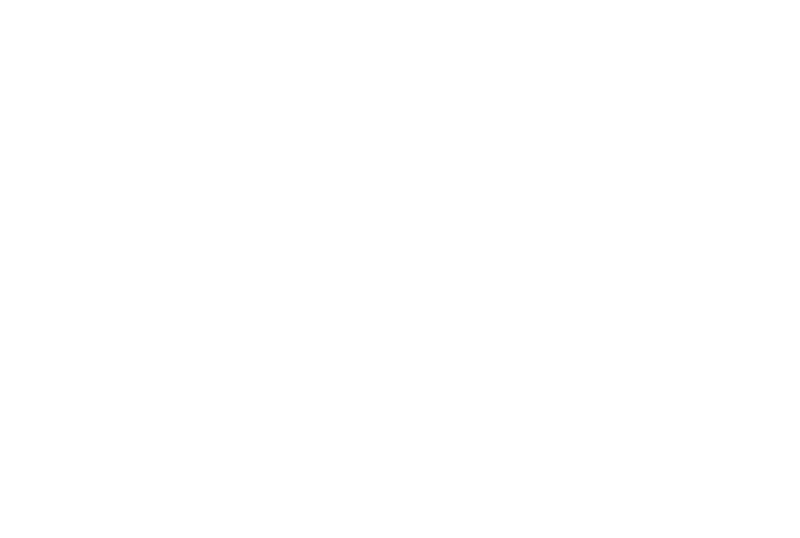
Русская атаманша французских бомжей
Однажды вечером, когда Анна и Марина прогуливали своих сыновей в маленьком сквере, к ним подошла и, прислушиваясь, остановилась неподалёку бомжиха. Тётка одета была вроде бы неплохо, но лицо у неё оказалось морщинистым, испитым, с небрежно подщипанными кое-где бровями. На голове — подобие химической завивки, на руках кокетливые митенки, но самое главное — кураж в глазах, чего у местных французских бомжей Анна никогда не видывала.
— Чего это она тут стоит? — прокуренным голосом поинтересовалась Марина.
Тётка, постояв в нерешительности, произнесла с явной неохотой:
— Да русская я, вот и стою, слушаю ваши пустые слова. Всё про мужиков мусолите…
— А про кого же нам ещё говорить-то? — рассердилась Марина.
— Ты что, армянка, что ли? — не отреагировала на её злость тетка, добавив: — Армянам дают паспорта во Франции — Шарль Азнавур создал тут фонд поддержки для армянских беженцев… А вот тебе, девушка, не дадут здесь ничего, — повернулась она к Анне, — больно лицо у тебя умное. Таких беженцев здесь не любят.
— Почему? — пожала плечами Анна.
— Ты ж не пойдёшь убираться в ихние туалеты?
— Не пойду, — призналась Анна.
— А им нужны такие, чтоб пошли. У них своих интеллигентов хватает…
— Да ладно пугать нас, — отмахнулась Марина. — Лучше покури с нами.
— Чужих не курю, — отказалась с достоинством бомжиха, достала пачку табака и ловко скрутила козью ножку.
— А вы давно здесь? — спросила Анна.
— Тридцать три года…
— А как вы сюда попали?
— Замуж вышла. Потом развелась, ребёнка при разделе семьи отдали мужу.
Я стала судиться, доказывать… но всё напрасно. Из квартиры выселили — я ж не работала, у меня здесь никакого диплома…
— А в России?
— Окончила физтех… профессор Капица был нашим деканом.
— А почему же сейчас вот так?..
— А что — живу, хожу из города в город, думаю... Летом мы на юг переходим, у моря живём. Зимой заселяемся в социальное общежитие для бездомных.
— А кто это — вы?
— Нас несколько человек. Все мужики… Это моя банда, — рассмеялась наполовину беззубым ртом русская бомжиха. — Да вон они сидят, — показала она. На лавках и впрямь расположилась компания живописных клошаров — немытых, нечёсаных, шумных.
— Как так можно жить-то? — спросила Марина. — Вы же потеряли всякий человеческий облик!
Тётка даже бровью не повела.
— А что это за люди? — спросила Анна, пытаясь смягчить впечатление от укора Марины.
— Нормальные люди… есть даже с университетскими дипломами… Французы, югославы, арабы. Уж получше, чем чиновники, что шастают с папочками. Эти чинуши всю задницу вылижут своему начальству за прибавку к жалованью. А мы — свободные люди в свободной стране, — горько усмехнулась тётка.
— А вернуться не хотите? В Россию.
— А меня туда не берут. Как занесли в чёрные списки предателей родины, когда за француза замуж вышла, так и не вычеркнули до сих пор. Да и паспорта у меня нет никакого... Всё, пошла я. Надо своих на ужин звать, а то пропустят.
Она, сдержанно кивнув Марине и Анне, направилась к лавке, где как раз шумно поссорились бомжи, что-то гаркнула им, и те притихли, поднялись и ушли почти строем с русской тёткой во главе.
— Ничего себе, командирша, — засмеялась Марина и, проводив взглядом эту нелепую компанию, добавила удивлённо: — А как это она увидела во мне армянку? Моя мать ведь на самом деле армянка, зато отец — грузин!..
Дневник Анны:
"Может, это не просто встреча, а пророчество?..
Может, я через десяток лет тоже превращусь в точно такую же бомжиху?.. Самое непостижимое для меня — это то, что она так давно не видела своего сына… и так спокойно говорит об этом!"
* * *
Анна и Марина сидели в бистро на центральной площади Лиона. Было уже тепло, в лужах плескались воробьи, прохожие подставляли солнцу лица.
— Посмотри, как они одеваются, эти француженки! Вай ме, дэда! Какой ужас на них, только сейчас рассмотрела как следует. Я бы в Тбилиси в таком виде мусор не пошла выносить! — Марина показала рукой на женщин, проходящих мимо их столика. — Эта одета… как продавщица на рынке — смотри, какие на ней лапти!.. Эта только что из деревни в город приехала — у неё джинсы на заднице мешком, будто с лошади слезла… А эту никто замуж не берёт, вот она и нацепила этот балахон, чтоб обратить на себя внимание. Не знаю, почему им так не хочется одеться красиво… В Тбилиси у людей денег нет, в магазинах пусто, света, газа, воды в домах нет, а на Руставели все одеты так, будто манекенщицы. Здесь же все работают, деньги у всех есть, в магазины лучше не заходить, умереть можно от жадности… а люди одеты хуже наших крестьян… Мне бы их деньги!
— В России пословица есть — бодливой корове бог рогов не дал… — отозвалась Анна.
— У нас в Грузии тоже так говорят. Но я хочу красиво одеваться, пока я молодая! А молодость проходит, пока я беженка…
Дневник Анны:
"Я видела в магазине подарков странный цветок. Сухой, сморщенный, — иерихонская роза. Этот цветок стоил дороже букета живых роз. Говорят, этому цветку открыт секрет бессмертия: когда приходят тяжёлые времена, цветок закрывается, высыхает и замирает в ожидании лучшего; но если он снова попадёт в благоприятную среду, то проснётся, отряхнёт коричневатую сухую пыль и пустит отчётливые зелёные линии по прежнему невнятному рисунку, источая тонкий и гниловатый запах мхов."
День сестёр
Собравшись на кухне, куда Вирджини уже доставила необходимые продукты, женщины из разных стран, подбадривая друг друга, начали готовить — каждая своё блюдо.
Негритянка Магорит, уютная и полная, как мамми из "Хижины дяди Тома", поджаривала бананы и маленьких красных рыбок, закупленных в специальном африканском магазине. Её соседка, молодая негритянка с измученным лицом и сиреневыми губами, про которую говорили, что она проститутка, потому что каждый вечер уходит куда-то, оставляя на попечение Магорит своего маленького ребёнка, помогала ей. Линда принесла целую кастрюлю фаршированных кабачков, которые они с мужем вчера весь вечер набивали фаршем и рисом. Анна делала своё фирменное блюдо — корейский плов с курицей. Готовили весело, с улыбками, потому что уже успели узнать друг друга и несколько привыкнуть.
Когда готовка была закончена и каждая из поварих выставила своё блюдо на длинный стол, стали звать мужей и детей.
Неожиданно Линда сказала, что она не хочет есть.
— А ваш муж? — прищурилась Вирджини.
— Тоже...
— Рамадан? — весело спросила у неё Магорит, без всякой задней мысли.
Вчера действительно кричал мулла — начался мусульманский пост. Но ведь Линда и её муж — христиане... Пока Анна, выкладывая плов в большое блюдо, раздумывала над этим, Линда сообщила, что она будет есть вместе со всеми, но её муж приболел.
Дневник Анны:
"После этого обеда я пошла за Митей, который играл с сыном Линды. Я подошла к двери в комнату Линды и, постучав, открыла дверь. Омар, муж Линды, молился на восток, стоя на коленях на маленьком коврике, как и полагается правоверному мусульманину. Увидев меня, он ужасно покраснел и был сильно напуган.
Вернувшись в свою комнату, я испытала неприятное ощущение — как будто подсмотрела нечаянно чужую наготу.
Вечером Линда пришла поболтать и показала фото из Багдада, на котором она, её муж и другие люди молились в христианской церкви.
— А вот ещё тебе подарок на память, — сказала Линда и протянула подушечку, на которой было вышито что-то про любовь к Иисусу.
Я не смогла переступить через себя и взять от неё этот подарок."
* * *
На следующий день рано утром в дверь постучали. Открыв дверь, Анна увидела в коридоре Оксану с Артуром, уже одетых, с чемоданом.
— Я ухожу.
— Куда?
— В Германию.
— Зачем?
— Там — мой муж.
— А Лёша кто? — тупо спросила Анна.
— Лёшка тебе всё расскажет...
— Как ты пойдёшь? Тебе ж скоро рожать...
— У меня нашли сифилис в анализах. Детей отберут…. Надо уходить. У меня мало денег, купи кастрюлю. Я её только в это воскресенье купила у арабов, — и она протянула Анне кастрюлю из нержавейки со стеклянной крышкой.
Дневник Анны:
"Что может быть беспомощнее беременной русской женщины с ребёнком в коляске, путешествующей по приютам Европы?..
Когда Оксана мне рассказала свою историю, я поняла, что ей нравится такая жизнь, ведь она просто не знает другой, прожив почти шесть лет беженкой. Её сожитель, армянин, живёт в Германии. Они жили вместе в общежитии для беженцев. Брак был не зарегистрирован, но двухлетний Артур — его сын. Получив отказ в ответ на свою просьбу о статусе беженца в Германии, Оксана могла быть в любое мгновение депортирована из этой страны. Чтоб избежать разлуки с мужем, она приехала во Францию, сманив с собой в качестве поддержки своего земляка, того самого Лёшу. Через некоторое время ей можно будет вернуться в Германию ещё раз и повторить свою просьбу о статусе беженца.
— Так многие делают, — неторопливо, чуть задыхаясь от ходьбы и от тяжести живота, рассказывала Оксана. Её подурневшее от беременности лицо было сплошь в красных прыщах.
— А когда ты сможешь вернуться в Германию?
— Через три месяца.
— Но где же ты собираешься жить с маленьким ребёнком, да ещё и беременная?!.
— Ашот звонил сюда, — с гордостью за международные связи своего мужа сказала Оксана. — Он нашёл мне жильё у своих знакомых, в центре Лиона. Пока побуду у них.
Я посадила её на метро, и поспешила в общежитие — Митя скоро должен был проснуться."
Урок французского
Впервые услышав живую французскую речь на вокзале в Безансоне — мужчина покупал в привокзальном кафетерии булочки и кофе, Анна заслушалась: простой диалог покупателя и продавца показался ей объяснением в любви. Достоевский услышал во французском языке птичьи переливы, Анна же была поражена лёгкостью интонаций, тянущих фразу вверх, отчего речь казалась ненавязчивой и чуть сомневающейся.
В вестибюле общежития появилось объявление: "Медам и месье! Курсы французского языка для дебютантов начинаются 3 января 2000 года".
На первый урок пришло несколько десятков человек. Детей забрали в специально созданную группу на время уроков. Митя заупрямился, не желая уходить от матери, но Жаклин, энергичная девушка из бюро, высокая, рыжеволосая, с пирсингом на бровях и губах, сумела завоевать его доверие, и он после уговоров всё-таки послушно пошёл в её класс, зажав под мышкой коробку с фломастерами, которые ему доверила Жаклин.
Всех взрослых учеников поделили на две большие группы — мужскую и женскую. Мужчин увела Натали, к женщинам пришёл Мурад, сорокалетний алжирец. После переклички, во время которой Мурад неоднократно вызывал громкий смех своих учениц произношением трудных албанских, армянских, грузинских и русских фамилий, начался урок. Мурад раздал листочки с картинками, на которых были изображены простые предметы и подписаны их названия на французском: стол, кровать, комод, дверь, окно. Если картинок не хватало, Мураду приходилось изображать эти слова или искать наглядное объяснение из подручного материала.
— Ле пье... — на мгновение задумывался Мурад. — Это... Вот что это! — и он доставал из-под стола чужую босую ногу в шлёпанце.
Обладательница ноги, албанка средних лет в чёрных спортивных брюках, фыркала и смеялась. Постепенно и весь класс, состоящий из взрослых женщин, покатывался со смеху.
— Всё, арэтэ! — приказывал Мурад, хлопая в ладоши, и аудитория беспрекословно замолкала.
Анна сидела за партой рядом с иранкой, красивой и самоуверенной, с большим золотым медальоном на груди. Эту женщину Анна уже встречала в сопровождении полноватого мужчины и бледной девочки лет семи.
— У вас красивое украшение, — сказала Анна иранке.
Та небрежным жестом взяла медальон в руку и ответила:
— Это моя... это моей бабушки. Она была гаремная женщина.
Мурад прервал их беседу замечанием:
— Дамы, силь ву пле!
Анна и иранка переглянулись. Кажется, в них обеих осталось ещё что-то такое, что пока ещё не вытравилось здешними условиями.
Дневник Анны:
"Эта женщина показалась мне самой благополучной в этом неблагополучном месте. Она была уверена, что всё в её жизни будет хорошо. И эта уверенность согрела даже меня. Раньше я была похожа на эту иранку, но теперь всё растеряла…"
* * *
Матанэт, та самая иранка, пригласила Анну на чашку кофе и познакомила русскую подругу со своей семьёй — с мужем, который приготовил кофе для них, и застенчивой дочкой, тихонько играющей в уголке.
Матанэт училась в Англии, в частной школе изящных искусств. Она художница по тканям, занималась росписью по шёлку. Она показала Анне несколько рисунков — старый Лион, набережные старого города, в которых монотонными точками Матанэт старательно вырисовывала окна на домах.
Семья Матанэт была одной из обедневших аристократических семей Ирана, не принявших исламскую революцию. Её бабушка потеряла двоих сыновей, погибших уже при новой власти, при партийных зачистках.
На фотографиях бабушка — породистая дама с сигареткой в руках и с модным каре на выбеленных волосах, что вместе с чёрными выщипанными бровями придавало ей вид театральной актрисы на пенсии.
— Разве женщины в Иране могут так свободно сидеть, положив ногу на ногу? — спросила Анна.
Матанэт задумалась:
— А я никогда об этом и не задумывалась… Во Франции тоже есть правила — они другие, но я вижу, что здесь многие люди, женщины особенно, как будто играют какую-то роль… Ты не замечала?
— Замечала.
— Ты не жалеешь, что приехала сюда?
— У меня не было выбора…
— А у меня он был.
— Поэтому ты ещё можешь задумываться, правильно ли вы сделали, что уехали… Для меня этот вопрос так не стоит.
— А как он звучит для тебя?
— Каждый день — по-разному… Например — что с нами будет?..
— Трудно тебе оставаться русской во Франции? — спросила Матанэт.
Анна пожала плечами. Она никогда не задумывалась над этим.
А Матанэт как будто приготовила ответ:
— Моя бабушка сказала мне, провожая в эмиграцию: "Останься там сама собой. Пойми, ты — иранка, ты никогда не станешь француженкой, ты можешь быть только такой, какая ты есть. Иногда тебе будет трудно оставаться самой собой, придётся выбирать между куском хлеба и свободой… Выбирай свободу. Даже если тебе будет стоить это самой жизни."
Дневник Анны:
"Линда рассказала мне, что Матанэт убежала от семьи с любовником в Германию. Я как раз на днях видела её мужа и дочь — они гуляли на детской площадке. После этой новости мне стало очень жаль эту девочку — бледненькую и растерянную, похожую на своего незлобивого мягкого отца. Стоят ли любовники того, чтоб ради них бросать собственных детей?.. Не знаю… Но осудить Матанэт я никак не могу. Кто знает, какая тоска заела её, живую, сильную, рядом с этим человеком, её мужем… Может быть, ей уже и жизнь была не мила рядом с ним…"
Русская красавица
Высокая девушка, подросток из семьи русских беженцев из Свердловска, привлекала внимание всего общежития: мужчины смотрели ей вслед, женщины не могли скрыть зависти во взглядах. Один пожилой седой араб так и остался однажды среди бела дня стоять с открытым ртом, когда навстречу ему вышло из кухни невыразимо прекрасное видение — красавица Соня со струящимися длинными волосами.
Самой пятнадцатилетней Соне казалось, что это ещё не жизнь, это всего лишь подготовка к жизни во Франции — той самой стране, о которой она рассказывает по телефону свои подругам, сильно приукрашивая действительность. О том, что их поселили в арабское общежитие, что им приходится ходить за продуктами в ассоциацию помощи беженцам — всего этого Соня не могла сказать своим свердловским одноклассницам. Она врала, что их поселили в гостинице — не очень шикарной, но с хорошими условиями, что они обедают и ужинают в ресторане, ходят всей семьёй в спортзал при гостиничном комплексе. Что папа записан к психоаналитику, чтобы быстрее привыкнуть к новым условиям…
Единственной "законной" неправдой в этих рассказах было название города, в котором они жили. Родители запретили дочери называть Лион местом их обитания. Соне приходилось при упоминании улиц или географических ориентиров вспоминать Париж, где они побывали когда-то в турпоездке.
Она играла с Ванечкой, своим младшим братом, с которым подружился Митя, и Анна даже заметила в своём сыне подобие первой любви — все поручения Сони он рвался выполнять с необычайным вдохновением.
— Митя и Ваня! — звала их Соня, и они, оставив свою увлекательнейшую игру на огромном деревянном фрегате, установленном на детской площадке, наперегонки неслись к Соне.
Соня пока не училась — её семья приехала недавно, в начале марта, и девочка ждала начала следующего учебного года в лицее.
Её родители ничего и никому не говорили о причинах, побудивших их приехать в эту страну и просить здесь политического убежища. Отец Сони был человеком непростым — по манере разговаривать, по сосредоточенному взгляду, по неторопливым жестам он производил впечатлением человека властного.
В феврале администрация общежития вывесила объявление: "Желающие пойти в парикмахерскую, запишитесь, пожалуйста, до 25 марта". Визит в парикмахерскую во Франции дорог, поэтому часть процедуры оплачивало бюро, решив сделать своим подопечным подарок.
Анна спустилась вниз и встретила в фойе Соню и Евгению, её маму, обрадовавшуюся соседке:
— Аня, вы тоже идёте туда?.. Тогда я не побоюсь Соню одну отпустить...
— Конечно, я ведь и Митю туда беру. Будем стричься и прихорашиваться во французском салоне — запредельной мечте всех женщин советской эпохи… Когда я была студенткой, мы занимали очередь с раннего утра, чтоб только записаться во французскую парикмахерскую на улице Герцена.
— Там все мастера были французами? — спросила Евгения.
— Нет, — рассмеялась Анна, — там работали только русские.
— А почему тогда эта парикмахерская называлась "французской"? — спросила Соня.
— Говорили, что этих мастеров учили французы. Но нам ведь в те времена достаточно было тогда одного названия, чтобы мы, как загипнотизированные, стояли часами в очереди и платили в три раза больше…
Утром долгожданного дня все желающие подстричься — их набралось человек тридцать — небольшой толпой вышли из фойе. Анна шла с Митей и Соней, они были рады предстоящему событию, изменившему их привычные будни. Светило яркое, уже почти летнее солнце. Как это всегда бывает ранней весной, все люди под этими первыми лучами казались какими-то слежавшимися, отсыревшими, одежда на них — старой, плохо сидевшей, а обувь стоптанной и пыльной. Остро хотелось обновления и чистоты, чего-то яркого, светлого...
Анна сначала хотела просто подравнять волосы, но под впечатлением от солнечного света ей вздумалось измениться так, чтобы никто её не узнал, чтобы она опять, как в студенческие годы, выходя из французской парикмахерской на Герцена, была беззаботна и полна планов на жизнь.
В салоне, который назывался "Джек Хольт", их уже ждали: к растерявшимся беженцам, забившимся в пространство между креслами, подошла Рашель, помощница владельца салона, худая и гибкая женщина, возраст которой угадать было невозможно. Она с подчёркнутой любезностью распределила многочисленных клиентов по креслам, дала знак мастерам, поджидавшим в стороне, приблизиться, и оказалось, что это не парикмахерская, а школа парикмахеров, в которой обучают будущих лионских цирюльников.
Анна, узнав об этом, сразу же передумала меняться кардинально, не доверяя рукам подмастерьев, решив лишь немного подравнять кончики волос. Митя, который пришёл в парикмахерскую впервые (раньше его стригла бабушка), объяснил жестами, как именно его подстричь.
Соня села в кресло подальше — и Анна почти не видела её. Как всегда в салонах, гудели фены, пощёлкивали ножницы, стоял запах свежемолотого кофе.
Вдруг Анна заметила, что со второго этажа спускается дама, при приближении которой все присутствующие начинают работать более демонстративно. Дама подошла к креслу, где сидела Соня, там уже собралась целая толпа, от которой отделилась и подошла к Анне администраторша Рашель:
— Вы не могли бы помочь нам с переводом?
— Конечно, но меня ещё не достригли…
— Вас достригут чуть позже, если вы не возражаете… Дело в том, что здесь сама мадам Хольт!
Полная шатенка невысокого роста, спустившаяся вниз, оказалась владелицей этого и ещё пятидесяти одноимённых салонов, разбросанных по всей Франции и даже представленных в других странах.
— Добрый день, — любезно поздоровалась с Анной мадам Хольт.
— Добрый день! — ответила Анна.
— Эта девочка — её зовут, кстати, как и мою дочь — нам бы подошла в качестве модели. Дело в том, что сейчас мы готовимся к международному показу, который пройдёт в Виттеле — это на границе со Швейцарией. Объясните это девочке и спросите её, согласилась бы она принять участие…
Анна перевела Соне. Та пожала плечами:
— Я не уверена, что папа меня отпустит.
Мадам Хольт, кажется, удивилась такому ответу, но виду не подала, любезно улыбаясь и кивая головой.
Соня стала событием дня в этом салоне — ей принесли кофе, ею любовались, на неё смотрели, ей занимались — все будто стремились занять место в очереди друзей будущей знаменитости.
На Соню оборачивались даже мастера. Анна услыхала, как один худой парень со смехом спросил у своего коллеги:
— Смотри, какая красотка! Не хочешь ею заняться?
Второй ответил ему:
— Нет! Моя подружка очень ревнива!
Проводив Соню с Анной и Митей до порога, мадам Хольт вручила им свою визитку и сказала, что она непременно свяжется с бюро, чтоб узнать о решении родителей Сони.
В общежитии Анна поднялась сначала к родителям Сони — они жили двумя этажами ниже. Попала некстати — стол был накрыт, все ждали Соню к обеду.
— Покажитесь-ка… — попросила Евгения, и Анна, Митя и Соня показали свои новые причёски.
— Честно сказать — ничего особенного… Думала, что вы вернётесь неузнаваемыми… — разочарованно произнесла Евгения.
А Сергей, отец Сони, мрачновато произнёс:
— Слишком вы падки на всё французское.
Анна и Соня, переглянувшись, решили сейчас ничего не говорить ему о приглашении мадам Хольт.
Через несколько дней Анна встретила Евгению и Соню у лифта — они возвращались с арабского рынка с полными пакетами овощей и фруктов.
Пока ждали опускающегося лифта, Соня сказала:
— А вы знаете, Аня, папа не разрешает мне туда поехать, на этот фестиваль…
Евгения пожала плечами:
— Отец боится за тебя — языка не знаешь, нигде ещё не была… Когда-нибудь станешь матерью, поймёшь наши чувства!
Анна всё понимала, но ей при этом было жаль расстроенную Соню.
— Как мне сказала эта дама, Мари Хольт, там будут и другие непрофессиональные модели — студентки, школьницы…
— Ой, — вздохнула Сонина мама, — попробуйте поговорить с Сергеем, может быть, он вас послушает!..
Анна пришла к ним вечером. В комнате были только Сергей и Евгения — Соня повела брата к афганскому мальчику на день рождения, который праздновался в кухне второго этажа. Туда же отправился и Митя, выбрав из своих машинок подарок для Али, темноволосого красавчика, любимчика всех жильцов.
— Я обещала Мари Хольт поговорить с вами… — начала Анна, не теряя времени.
— Не нужно говорить мне об этой лавочнице! Я старого воспитания — не люблю капиталистов.
— Причём тут капитализм, Сергей... Ваша дочь, может быть, будет помнить о том, что вы не пустили её на этот международный показ, всю жизнь. Посмотрите на всё это её глазами: вот это, — Анна показала на потёртую общежитскую мебель, — и праздник моды, красоты… Это же совсем другой мир!.. Ей шестнадцать лет. И она у вас очень чистый и гармоничный человечек. Мне кажется, что вы можете доверять своей дочери — она не начнёт пьянствовать, курить анашу или вести разгульную жизнь на этом самом празднике.
— И этот чистый гармоничный человечек останется дома! Она будет видеть жизнь такой, какая есть! Я понимаю, что вы хорошо к Соне относитесь, поэтому и устроили здесь митинг в защиту прав подростков, но я её не отпущу.
Через несколько дней Соня прибежала к Анне сияющая:
— Папа мне разрешил туда поехать!
— Но почему?!.
— К нам пришла целая делегация от Мари Хольт. С ней были Натали и ещё одна девушка, которая работает в бюро. И они даже пригласили русскую переводчицу для этой беседы. Папа поначалу отказывался от их предложения, а потом согласился. Хольт сказала, что хорошо заплатит мне, вот папа и разрешил мне ехать. А кто-то из соседей сказал папе, что если я стану здесь известной моделью, нам легко дадут французское гражданство…
— Когда вы едете?
— Через неделю!
Соня заразила всех знакомых ожиданием праздника, она даже стала улыбчивей и мягче.
Проводив Соню, её родители быстро заскучали. Сергей волновался больше Евгении, он опять начал курить и часто уходил побродить по улицам.
Возвращение Сони
Когда Соня вернулась, её причёска сильно изменилась, стала стильной и оригинальной. Она и сама похорошела, но при этом осталась всё той же Соней.
— Мы ехали недолго, — рассказывала она. — Во Франции всё, оказывается, близко — и в Виттеле мы были уже через три часа. Мама одной девочки везла нас, четверых непрофессиональных моделей, на машине. Расселили нас в хорошем отеле, с бассейном и шведским столом. Там было много профессиональных моделей, были и русские. Когда я сказала одной девушке, что я тоже русская, она начала меня постоянно критиковать за то, что я неправильно хожу, неправильно двигаюсь... Профессиональные манекенщицы почти ничего не ели в ресторане, брали только листик салата и маленький кусочек вареной рыбки. Мы по сравнению с ними были настоящими обжорами… Сам праздник длился три дня, а перед этим мы несколько дней репетировали. У Мари Хольт была очень красивая постановка — "Времена года"; я была на сцене "осенью".
— Да ты же у нас весна! — сказала Евгения.
— Нет, визажист и Рашель сказали, что во мне есть что-то осеннее — цвет волос, тип лица… Что во мне есть какая-то грусть.
Тут не выдержал Сергей:
— Нет в тебе никакой грусти, это они тебя под свою постановку примеряли — осень нашли!
— Это как раз ерунда, пап, у меня была самая красивая одежда — красный плащ, который я сбрасывала на сцене, а Мари Хольт начинала стричь меня.
— Так тебя на сцене стригли?!
— Да, это же не просто дефиле причёсок, это показательные выступления знаменитых парикмахеров, которые задают моду на причёски на следующий год. Там было столько тележурналистов! Идёшь по сцене — и ничего не видишь из-за вспышек камер! Мари Хольт обещала мне фото дать и даже видеосюжет показать. Она осталась там, но когда приедет — позвонит.
— А она тебе ничего не заплатила? — спросила Анна.
— Нет, она сказала, что когда вернётся в Лион — заплатит.
— Может и не заплатить, — засомневался Сергей. — Никаких обязательств у неё нет: вы же с ней не подписали контракт, так что доказательств, что ты на неё работала, у тебя нет.
— Пап, ну что ты сразу! — огорчилась Соня. — Она сказала, что понимает наше положение и не собирается делать на нашей бесправности деньги!
Евгения вздохнула:
— Главное, что ты посмотрела праздник, наша золушка!
— Деньги нам тоже бы не помешали, — хмуро отозвался Сергей, ставя точку своей непререкаемой правотой.
Вскоре Анна встретила Евгению на улице, и та рассказала ей конец этой истории:
— Нас вызвали в бюро несколько дней назад. Оказывается, Мари Хольт передала какой-то пакет для Сони. Я пошла туда одна, получила этот огромный пакет, расписалась за него. Принесла в комнату, а меня уже ждут мои, хотят подсчитать гонорар — мы же не знаем, сколько тут модели получают. Может, тысячу, может, пять тысяч... Открываем… и можете себе представить, Аня, что же там было…
— Что?!
Евгения усмехнулась:
— Целый мешок старой одежды! Старые свитера, истрёпанные джинсы, какие у нас в секонд-хенде никто не возьмёт… Даже старое бельё туда положила!
— Это ужасно! — Анна была поражена не меньше самой Евгении. — А как Соня на это отреагировала?
— Анечка… она так плакала...
Дневник Анны:
"Сегодня я мылась в душе, который расположен рядом с туалетом, в конце коридора. В помещении две кабинки и маленький коридор-предбанник. Вода из-под проржавевшего душа стекает тонкой струйкой, отчего я всегда мёрзну. Замёрзнув и в этот раз, я, накинув халат с намокшим рукавом (душ общий, поэтому одежду приходится брать с собой в кабину), выскочила в предбанник, чтобы там как следует вытереть голову.
В предбаннике в тусклом свете экономной лампочки две чернокожие голые женщины натирались мазью из круглой жестянки. Я от неожиданности просто опешила — чёрные тела заполонили весь коридорчик, сильный запах мускуса вызывал тошноту. Они не обращали на меня внимания, а я, набросив на голову полотенце, выскочила из этого сюрреалистического места, в который раз задумавшись, зачем и за что мне всё это терпеть…
А ещё я была в Париже…
Это город, в котором чувствуется дыхание истории. Французы рачительно собрали всё своё наследство: антиквариат и раритеты, разместив их в одном городе, как в квартире, где гордятся семейными портретами, но при этом не вывешивают их в передней.
Гуляя по Монмартру, я набрела на кафе, в котором пили кофе или играли в шахматы знаменитые писатели. На столиках там металлические пластинки с именами Сартра, Камю, Хемингуэя, Миллера… Я пыталась отыскать столик Сартра, но он был занят. Честь посидеть в такой компании обойдётся недёшево: чашка кофе стоит двадцать пять франков, в то время как везде — от десяти до пятнадцати.
Кафе это до сих считается богемным: гардеробщик при мне взял автограф у худого месье в чёрном длинном плаще. Престарелые дамы с тонкими талиями и наклеенными ресницами мне показались в этом месте не старухами, а постаревшими лолитами: столько надежды, столько запрещённого зова в их томных глазах! И так ощутимо пробирает холодом их одиночества...
Рядом с кафе бронзовый памятник Бонапарту; на постаменте, украшенном барельефами, выбиты даты его жизни и борьбы. Дата начала отступления из России — октябрь 1812 года. Всё-таки не снег и морозы прогнали Наполеона из России… А ведь именно снег мне называли почти все французы в качестве главной причины отступления, стоило только задеть эту тему."
Потомки
Однажды, проходя по узким улицам старого Лиона, Анна увидела витрину, расписанную в русском стиле, с надписью "Русская галерея". Открыв дверь, она наткнулась на господина средних лет, который собирался выходить.
— Вы хозяин?..
— Да, — ответил он, раздумывая, как бы ему вытащить из крошечной каморки на улицу расписной клавесин. — Вы хотите купить что-нибудь или просто посмотреть?
— Посмотреть…
— Сегодня уже поздно. Приходите в другой раз, мадам. Впрочем… что вас интересует?
— Я русская…
— Я понял.
— Просто увидела русскую галерея, вот и зашла, — объяснила Анна, уже сожалея об этом.
Владелец галереи смягчился:
— Да вы заходите в любое время, здесь собираются иногда русские эмигранты… Но сейчас я должен отвезти этот клавесин покупателю. Хотите мне помочь? Заодно я вас подкину до метро…
Загрузив клавесин в открытый багажник, он галантным жестом распахнул дверцу старенького "пежо". В машине владелец галереи представился Александром Голиковым, потомком князя Голикова, капитана броненосца "Потёмкин", убитого во время знаменитого восстания 1905 года. Крупный краснолицый человек, унаследовавший голубую кровь русских аристократов, был при этом похож скорее на американского фермера. Порода всё же сказывалась — в его ненавязчивой манере свободно говорить обо всем, не стесняя при этом своего собеседника. У метро Анна вышла, взяв номер телефона господина Голикова. Ею двигало желание понять, как сложилась жизнь потомков русских аристократов в эмиграции, стоило ли им менять прозябание в СССР с постоянной угрозой для жизни на выживание в чужой стране… Не для того, чтобы судить и вынести приговор, а для того, чтоб узнать ответ на вопрос, "зачем нам, поручик, чужая земля?"… Стоило ли им? Стоит ли ей?
Когда они через несколько дней встретились с Голиковым в галерее, тот рассказал Анне много любопытного:
— Мой прадед был убит матросом Матюшенко в 1905 году. Весь мир благодаря кинорежиссёру Эйзенштейну увидел червей в матросском обеде на броненосце. Так знайте, что эти плакатные кадры — враньё чистой воды! Мой прадед, капитан, ел ту же самую матросскую похлёбку. Даже адмирал флота ел из матросского котла… После революции моя прабабушка эмигрировала во Францию, так как её дом в Одессе был занят революционерами, а нашу семью хотели убить матросы. Я, кстати, недавно побывал в этом доме — во время СССР там открыли Дворец пионеров… Меня воспитала моя удивительная бабушка! Она не посылала меня в школу и не разбирала чемоданы — всё ждала момента вернуться в Россию. Мы тогда жили под Греноблем, где в годы моего детства была русская община. Мне повезло — я видел старых русских княгинь и графов, которые были людьми необыкновенными: даже сильно нуждаясь, они никогда не позволяли себе горевать о деньгах или плохо выглядеть. Я преклоняюсь перед этими людьми — потерявшими всё на свете, кроме своего внутреннего стержня. Таких людей уж нет… Самое трудное в эмиграции — остаться самим собой. Именно за это приходится побороться, — признавался Голиков и подливал Анне чай в керамическую чашку, на дне которой керамическая жаба пускала пузыри…
Дневник Анны:
"Кровь русских аристократов, смешавшись с французской кровью, даёт в потомках известных фамилий сочетание жизнестойкое, практическое и даже прагматичное. Тонко наслаждаясь своей чужеродностью в среде средних французских обывателей, они уже не нуждаются в поиске смысла. Даже сакраментальный вопрос, зачем им чужая земля, перед ними не маячит: между двух земель, своей и чужой, тоже, оказывается, есть жизнь, хоть и полная внутренних компромиссов.
Впрочем, никто из здравомыслящих людей эмигрировать не будет. Эмиграция — это катастрофа, сдвиг всех родовых пластов, потеря себя.
Всё наше общежитие наполнено людьми, которые оторвались от своих домов, от родных, от своего языка и повседневности. Жизнь продолжается — люди едят, ходят в гости, влюбляются, женятся, рожают детей, но в каждом из обитателей этого дома заметна какая-то оцепенелость чувств. Все старожилы постепенно теряют интерес друг к другу, на их лицах появляются усталые гримасы, напоминающие улыбки...
Сначала эта блочная семиэтажка мышиного цвета мне показалась ковчегом, в котором каждая нация спасается от горя, наводнившего мир, — от нищеты, бомбардировок, бандитизма… Теперь же это здание мне всё больше кажется чистилищем, где мы должны вспомнить и осознать боль, которую причинили кому-то…
Или мы забыли Бога,
Или Бог забыл про нас..."
Однажды вечером, когда Анна и Марина прогуливали своих сыновей в маленьком сквере, к ним подошла и, прислушиваясь, остановилась неподалёку бомжиха. Тётка одета была вроде бы неплохо, но лицо у неё оказалось морщинистым, испитым, с небрежно подщипанными кое-где бровями. На голове — подобие химической завивки, на руках кокетливые митенки, но самое главное — кураж в глазах, чего у местных французских бомжей Анна никогда не видывала.
— Чего это она тут стоит? — прокуренным голосом поинтересовалась Марина.
Тётка, постояв в нерешительности, произнесла с явной неохотой:
— Да русская я, вот и стою, слушаю ваши пустые слова. Всё про мужиков мусолите…
— А про кого же нам ещё говорить-то? — рассердилась Марина.
— Ты что, армянка, что ли? — не отреагировала на её злость тетка, добавив: — Армянам дают паспорта во Франции — Шарль Азнавур создал тут фонд поддержки для армянских беженцев… А вот тебе, девушка, не дадут здесь ничего, — повернулась она к Анне, — больно лицо у тебя умное. Таких беженцев здесь не любят.
— Почему? — пожала плечами Анна.
— Ты ж не пойдёшь убираться в ихние туалеты?
— Не пойду, — призналась Анна.
— А им нужны такие, чтоб пошли. У них своих интеллигентов хватает…
— Да ладно пугать нас, — отмахнулась Марина. — Лучше покури с нами.
— Чужих не курю, — отказалась с достоинством бомжиха, достала пачку табака и ловко скрутила козью ножку.
— А вы давно здесь? — спросила Анна.
— Тридцать три года…
— А как вы сюда попали?
— Замуж вышла. Потом развелась, ребёнка при разделе семьи отдали мужу.
Я стала судиться, доказывать… но всё напрасно. Из квартиры выселили — я ж не работала, у меня здесь никакого диплома…
— А в России?
— Окончила физтех… профессор Капица был нашим деканом.
— А почему же сейчас вот так?..
— А что — живу, хожу из города в город, думаю... Летом мы на юг переходим, у моря живём. Зимой заселяемся в социальное общежитие для бездомных.
— А кто это — вы?
— Нас несколько человек. Все мужики… Это моя банда, — рассмеялась наполовину беззубым ртом русская бомжиха. — Да вон они сидят, — показала она. На лавках и впрямь расположилась компания живописных клошаров — немытых, нечёсаных, шумных.
— Как так можно жить-то? — спросила Марина. — Вы же потеряли всякий человеческий облик!
Тётка даже бровью не повела.
— А что это за люди? — спросила Анна, пытаясь смягчить впечатление от укора Марины.
— Нормальные люди… есть даже с университетскими дипломами… Французы, югославы, арабы. Уж получше, чем чиновники, что шастают с папочками. Эти чинуши всю задницу вылижут своему начальству за прибавку к жалованью. А мы — свободные люди в свободной стране, — горько усмехнулась тётка.
— А вернуться не хотите? В Россию.
— А меня туда не берут. Как занесли в чёрные списки предателей родины, когда за француза замуж вышла, так и не вычеркнули до сих пор. Да и паспорта у меня нет никакого... Всё, пошла я. Надо своих на ужин звать, а то пропустят.
Она, сдержанно кивнув Марине и Анне, направилась к лавке, где как раз шумно поссорились бомжи, что-то гаркнула им, и те притихли, поднялись и ушли почти строем с русской тёткой во главе.
— Ничего себе, командирша, — засмеялась Марина и, проводив взглядом эту нелепую компанию, добавила удивлённо: — А как это она увидела во мне армянку? Моя мать ведь на самом деле армянка, зато отец — грузин!..
Дневник Анны:
"Может, это не просто встреча, а пророчество?..
Может, я через десяток лет тоже превращусь в точно такую же бомжиху?.. Самое непостижимое для меня — это то, что она так давно не видела своего сына… и так спокойно говорит об этом!"
* * *
Анна и Марина сидели в бистро на центральной площади Лиона. Было уже тепло, в лужах плескались воробьи, прохожие подставляли солнцу лица.
— Посмотри, как они одеваются, эти француженки! Вай ме, дэда! Какой ужас на них, только сейчас рассмотрела как следует. Я бы в Тбилиси в таком виде мусор не пошла выносить! — Марина показала рукой на женщин, проходящих мимо их столика. — Эта одета… как продавщица на рынке — смотри, какие на ней лапти!.. Эта только что из деревни в город приехала — у неё джинсы на заднице мешком, будто с лошади слезла… А эту никто замуж не берёт, вот она и нацепила этот балахон, чтоб обратить на себя внимание. Не знаю, почему им так не хочется одеться красиво… В Тбилиси у людей денег нет, в магазинах пусто, света, газа, воды в домах нет, а на Руставели все одеты так, будто манекенщицы. Здесь же все работают, деньги у всех есть, в магазины лучше не заходить, умереть можно от жадности… а люди одеты хуже наших крестьян… Мне бы их деньги!
— В России пословица есть — бодливой корове бог рогов не дал… — отозвалась Анна.
— У нас в Грузии тоже так говорят. Но я хочу красиво одеваться, пока я молодая! А молодость проходит, пока я беженка…
Дневник Анны:
"Я видела в магазине подарков странный цветок. Сухой, сморщенный, — иерихонская роза. Этот цветок стоил дороже букета живых роз. Говорят, этому цветку открыт секрет бессмертия: когда приходят тяжёлые времена, цветок закрывается, высыхает и замирает в ожидании лучшего; но если он снова попадёт в благоприятную среду, то проснётся, отряхнёт коричневатую сухую пыль и пустит отчётливые зелёные линии по прежнему невнятному рисунку, источая тонкий и гниловатый запах мхов."
День сестёр
Собравшись на кухне, куда Вирджини уже доставила необходимые продукты, женщины из разных стран, подбадривая друг друга, начали готовить — каждая своё блюдо.
Негритянка Магорит, уютная и полная, как мамми из "Хижины дяди Тома", поджаривала бананы и маленьких красных рыбок, закупленных в специальном африканском магазине. Её соседка, молодая негритянка с измученным лицом и сиреневыми губами, про которую говорили, что она проститутка, потому что каждый вечер уходит куда-то, оставляя на попечение Магорит своего маленького ребёнка, помогала ей. Линда принесла целую кастрюлю фаршированных кабачков, которые они с мужем вчера весь вечер набивали фаршем и рисом. Анна делала своё фирменное блюдо — корейский плов с курицей. Готовили весело, с улыбками, потому что уже успели узнать друг друга и несколько привыкнуть.
Когда готовка была закончена и каждая из поварих выставила своё блюдо на длинный стол, стали звать мужей и детей.
Неожиданно Линда сказала, что она не хочет есть.
— А ваш муж? — прищурилась Вирджини.
— Тоже...
— Рамадан? — весело спросила у неё Магорит, без всякой задней мысли.
Вчера действительно кричал мулла — начался мусульманский пост. Но ведь Линда и её муж — христиане... Пока Анна, выкладывая плов в большое блюдо, раздумывала над этим, Линда сообщила, что она будет есть вместе со всеми, но её муж приболел.
Дневник Анны:
"После этого обеда я пошла за Митей, который играл с сыном Линды. Я подошла к двери в комнату Линды и, постучав, открыла дверь. Омар, муж Линды, молился на восток, стоя на коленях на маленьком коврике, как и полагается правоверному мусульманину. Увидев меня, он ужасно покраснел и был сильно напуган.
Вернувшись в свою комнату, я испытала неприятное ощущение — как будто подсмотрела нечаянно чужую наготу.
Вечером Линда пришла поболтать и показала фото из Багдада, на котором она, её муж и другие люди молились в христианской церкви.
— А вот ещё тебе подарок на память, — сказала Линда и протянула подушечку, на которой было вышито что-то про любовь к Иисусу.
Я не смогла переступить через себя и взять от неё этот подарок."
* * *
На следующий день рано утром в дверь постучали. Открыв дверь, Анна увидела в коридоре Оксану с Артуром, уже одетых, с чемоданом.
— Я ухожу.
— Куда?
— В Германию.
— Зачем?
— Там — мой муж.
— А Лёша кто? — тупо спросила Анна.
— Лёшка тебе всё расскажет...
— Как ты пойдёшь? Тебе ж скоро рожать...
— У меня нашли сифилис в анализах. Детей отберут…. Надо уходить. У меня мало денег, купи кастрюлю. Я её только в это воскресенье купила у арабов, — и она протянула Анне кастрюлю из нержавейки со стеклянной крышкой.
Дневник Анны:
"Что может быть беспомощнее беременной русской женщины с ребёнком в коляске, путешествующей по приютам Европы?..
Когда Оксана мне рассказала свою историю, я поняла, что ей нравится такая жизнь, ведь она просто не знает другой, прожив почти шесть лет беженкой. Её сожитель, армянин, живёт в Германии. Они жили вместе в общежитии для беженцев. Брак был не зарегистрирован, но двухлетний Артур — его сын. Получив отказ в ответ на свою просьбу о статусе беженца в Германии, Оксана могла быть в любое мгновение депортирована из этой страны. Чтоб избежать разлуки с мужем, она приехала во Францию, сманив с собой в качестве поддержки своего земляка, того самого Лёшу. Через некоторое время ей можно будет вернуться в Германию ещё раз и повторить свою просьбу о статусе беженца.
— Так многие делают, — неторопливо, чуть задыхаясь от ходьбы и от тяжести живота, рассказывала Оксана. Её подурневшее от беременности лицо было сплошь в красных прыщах.
— А когда ты сможешь вернуться в Германию?
— Через три месяца.
— Но где же ты собираешься жить с маленьким ребёнком, да ещё и беременная?!.
— Ашот звонил сюда, — с гордостью за международные связи своего мужа сказала Оксана. — Он нашёл мне жильё у своих знакомых, в центре Лиона. Пока побуду у них.
Я посадила её на метро, и поспешила в общежитие — Митя скоро должен был проснуться."
Урок французского
Впервые услышав живую французскую речь на вокзале в Безансоне — мужчина покупал в привокзальном кафетерии булочки и кофе, Анна заслушалась: простой диалог покупателя и продавца показался ей объяснением в любви. Достоевский услышал во французском языке птичьи переливы, Анна же была поражена лёгкостью интонаций, тянущих фразу вверх, отчего речь казалась ненавязчивой и чуть сомневающейся.
В вестибюле общежития появилось объявление: "Медам и месье! Курсы французского языка для дебютантов начинаются 3 января 2000 года".
На первый урок пришло несколько десятков человек. Детей забрали в специально созданную группу на время уроков. Митя заупрямился, не желая уходить от матери, но Жаклин, энергичная девушка из бюро, высокая, рыжеволосая, с пирсингом на бровях и губах, сумела завоевать его доверие, и он после уговоров всё-таки послушно пошёл в её класс, зажав под мышкой коробку с фломастерами, которые ему доверила Жаклин.
Всех взрослых учеников поделили на две большие группы — мужскую и женскую. Мужчин увела Натали, к женщинам пришёл Мурад, сорокалетний алжирец. После переклички, во время которой Мурад неоднократно вызывал громкий смех своих учениц произношением трудных албанских, армянских, грузинских и русских фамилий, начался урок. Мурад раздал листочки с картинками, на которых были изображены простые предметы и подписаны их названия на французском: стол, кровать, комод, дверь, окно. Если картинок не хватало, Мураду приходилось изображать эти слова или искать наглядное объяснение из подручного материала.
— Ле пье... — на мгновение задумывался Мурад. — Это... Вот что это! — и он доставал из-под стола чужую босую ногу в шлёпанце.
Обладательница ноги, албанка средних лет в чёрных спортивных брюках, фыркала и смеялась. Постепенно и весь класс, состоящий из взрослых женщин, покатывался со смеху.
— Всё, арэтэ! — приказывал Мурад, хлопая в ладоши, и аудитория беспрекословно замолкала.
Анна сидела за партой рядом с иранкой, красивой и самоуверенной, с большим золотым медальоном на груди. Эту женщину Анна уже встречала в сопровождении полноватого мужчины и бледной девочки лет семи.
— У вас красивое украшение, — сказала Анна иранке.
Та небрежным жестом взяла медальон в руку и ответила:
— Это моя... это моей бабушки. Она была гаремная женщина.
Мурад прервал их беседу замечанием:
— Дамы, силь ву пле!
Анна и иранка переглянулись. Кажется, в них обеих осталось ещё что-то такое, что пока ещё не вытравилось здешними условиями.
Дневник Анны:
"Эта женщина показалась мне самой благополучной в этом неблагополучном месте. Она была уверена, что всё в её жизни будет хорошо. И эта уверенность согрела даже меня. Раньше я была похожа на эту иранку, но теперь всё растеряла…"
* * *
Матанэт, та самая иранка, пригласила Анну на чашку кофе и познакомила русскую подругу со своей семьёй — с мужем, который приготовил кофе для них, и застенчивой дочкой, тихонько играющей в уголке.
Матанэт училась в Англии, в частной школе изящных искусств. Она художница по тканям, занималась росписью по шёлку. Она показала Анне несколько рисунков — старый Лион, набережные старого города, в которых монотонными точками Матанэт старательно вырисовывала окна на домах.
Семья Матанэт была одной из обедневших аристократических семей Ирана, не принявших исламскую революцию. Её бабушка потеряла двоих сыновей, погибших уже при новой власти, при партийных зачистках.
На фотографиях бабушка — породистая дама с сигареткой в руках и с модным каре на выбеленных волосах, что вместе с чёрными выщипанными бровями придавало ей вид театральной актрисы на пенсии.
— Разве женщины в Иране могут так свободно сидеть, положив ногу на ногу? — спросила Анна.
Матанэт задумалась:
— А я никогда об этом и не задумывалась… Во Франции тоже есть правила — они другие, но я вижу, что здесь многие люди, женщины особенно, как будто играют какую-то роль… Ты не замечала?
— Замечала.
— Ты не жалеешь, что приехала сюда?
— У меня не было выбора…
— А у меня он был.
— Поэтому ты ещё можешь задумываться, правильно ли вы сделали, что уехали… Для меня этот вопрос так не стоит.
— А как он звучит для тебя?
— Каждый день — по-разному… Например — что с нами будет?..
— Трудно тебе оставаться русской во Франции? — спросила Матанэт.
Анна пожала плечами. Она никогда не задумывалась над этим.
А Матанэт как будто приготовила ответ:
— Моя бабушка сказала мне, провожая в эмиграцию: "Останься там сама собой. Пойми, ты — иранка, ты никогда не станешь француженкой, ты можешь быть только такой, какая ты есть. Иногда тебе будет трудно оставаться самой собой, придётся выбирать между куском хлеба и свободой… Выбирай свободу. Даже если тебе будет стоить это самой жизни."
Дневник Анны:
"Линда рассказала мне, что Матанэт убежала от семьи с любовником в Германию. Я как раз на днях видела её мужа и дочь — они гуляли на детской площадке. После этой новости мне стало очень жаль эту девочку — бледненькую и растерянную, похожую на своего незлобивого мягкого отца. Стоят ли любовники того, чтоб ради них бросать собственных детей?.. Не знаю… Но осудить Матанэт я никак не могу. Кто знает, какая тоска заела её, живую, сильную, рядом с этим человеком, её мужем… Может быть, ей уже и жизнь была не мила рядом с ним…"
Русская красавица
Высокая девушка, подросток из семьи русских беженцев из Свердловска, привлекала внимание всего общежития: мужчины смотрели ей вслед, женщины не могли скрыть зависти во взглядах. Один пожилой седой араб так и остался однажды среди бела дня стоять с открытым ртом, когда навстречу ему вышло из кухни невыразимо прекрасное видение — красавица Соня со струящимися длинными волосами.
Самой пятнадцатилетней Соне казалось, что это ещё не жизнь, это всего лишь подготовка к жизни во Франции — той самой стране, о которой она рассказывает по телефону свои подругам, сильно приукрашивая действительность. О том, что их поселили в арабское общежитие, что им приходится ходить за продуктами в ассоциацию помощи беженцам — всего этого Соня не могла сказать своим свердловским одноклассницам. Она врала, что их поселили в гостинице — не очень шикарной, но с хорошими условиями, что они обедают и ужинают в ресторане, ходят всей семьёй в спортзал при гостиничном комплексе. Что папа записан к психоаналитику, чтобы быстрее привыкнуть к новым условиям…
Единственной "законной" неправдой в этих рассказах было название города, в котором они жили. Родители запретили дочери называть Лион местом их обитания. Соне приходилось при упоминании улиц или географических ориентиров вспоминать Париж, где они побывали когда-то в турпоездке.
Она играла с Ванечкой, своим младшим братом, с которым подружился Митя, и Анна даже заметила в своём сыне подобие первой любви — все поручения Сони он рвался выполнять с необычайным вдохновением.
— Митя и Ваня! — звала их Соня, и они, оставив свою увлекательнейшую игру на огромном деревянном фрегате, установленном на детской площадке, наперегонки неслись к Соне.
Соня пока не училась — её семья приехала недавно, в начале марта, и девочка ждала начала следующего учебного года в лицее.
Её родители ничего и никому не говорили о причинах, побудивших их приехать в эту страну и просить здесь политического убежища. Отец Сони был человеком непростым — по манере разговаривать, по сосредоточенному взгляду, по неторопливым жестам он производил впечатлением человека властного.
В феврале администрация общежития вывесила объявление: "Желающие пойти в парикмахерскую, запишитесь, пожалуйста, до 25 марта". Визит в парикмахерскую во Франции дорог, поэтому часть процедуры оплачивало бюро, решив сделать своим подопечным подарок.
Анна спустилась вниз и встретила в фойе Соню и Евгению, её маму, обрадовавшуюся соседке:
— Аня, вы тоже идёте туда?.. Тогда я не побоюсь Соню одну отпустить...
— Конечно, я ведь и Митю туда беру. Будем стричься и прихорашиваться во французском салоне — запредельной мечте всех женщин советской эпохи… Когда я была студенткой, мы занимали очередь с раннего утра, чтоб только записаться во французскую парикмахерскую на улице Герцена.
— Там все мастера были французами? — спросила Евгения.
— Нет, — рассмеялась Анна, — там работали только русские.
— А почему тогда эта парикмахерская называлась "французской"? — спросила Соня.
— Говорили, что этих мастеров учили французы. Но нам ведь в те времена достаточно было тогда одного названия, чтобы мы, как загипнотизированные, стояли часами в очереди и платили в три раза больше…
Утром долгожданного дня все желающие подстричься — их набралось человек тридцать — небольшой толпой вышли из фойе. Анна шла с Митей и Соней, они были рады предстоящему событию, изменившему их привычные будни. Светило яркое, уже почти летнее солнце. Как это всегда бывает ранней весной, все люди под этими первыми лучами казались какими-то слежавшимися, отсыревшими, одежда на них — старой, плохо сидевшей, а обувь стоптанной и пыльной. Остро хотелось обновления и чистоты, чего-то яркого, светлого...
Анна сначала хотела просто подравнять волосы, но под впечатлением от солнечного света ей вздумалось измениться так, чтобы никто её не узнал, чтобы она опять, как в студенческие годы, выходя из французской парикмахерской на Герцена, была беззаботна и полна планов на жизнь.
В салоне, который назывался "Джек Хольт", их уже ждали: к растерявшимся беженцам, забившимся в пространство между креслами, подошла Рашель, помощница владельца салона, худая и гибкая женщина, возраст которой угадать было невозможно. Она с подчёркнутой любезностью распределила многочисленных клиентов по креслам, дала знак мастерам, поджидавшим в стороне, приблизиться, и оказалось, что это не парикмахерская, а школа парикмахеров, в которой обучают будущих лионских цирюльников.
Анна, узнав об этом, сразу же передумала меняться кардинально, не доверяя рукам подмастерьев, решив лишь немного подравнять кончики волос. Митя, который пришёл в парикмахерскую впервые (раньше его стригла бабушка), объяснил жестами, как именно его подстричь.
Соня села в кресло подальше — и Анна почти не видела её. Как всегда в салонах, гудели фены, пощёлкивали ножницы, стоял запах свежемолотого кофе.
Вдруг Анна заметила, что со второго этажа спускается дама, при приближении которой все присутствующие начинают работать более демонстративно. Дама подошла к креслу, где сидела Соня, там уже собралась целая толпа, от которой отделилась и подошла к Анне администраторша Рашель:
— Вы не могли бы помочь нам с переводом?
— Конечно, но меня ещё не достригли…
— Вас достригут чуть позже, если вы не возражаете… Дело в том, что здесь сама мадам Хольт!
Полная шатенка невысокого роста, спустившаяся вниз, оказалась владелицей этого и ещё пятидесяти одноимённых салонов, разбросанных по всей Франции и даже представленных в других странах.
— Добрый день, — любезно поздоровалась с Анной мадам Хольт.
— Добрый день! — ответила Анна.
— Эта девочка — её зовут, кстати, как и мою дочь — нам бы подошла в качестве модели. Дело в том, что сейчас мы готовимся к международному показу, который пройдёт в Виттеле — это на границе со Швейцарией. Объясните это девочке и спросите её, согласилась бы она принять участие…
Анна перевела Соне. Та пожала плечами:
— Я не уверена, что папа меня отпустит.
Мадам Хольт, кажется, удивилась такому ответу, но виду не подала, любезно улыбаясь и кивая головой.
Соня стала событием дня в этом салоне — ей принесли кофе, ею любовались, на неё смотрели, ей занимались — все будто стремились занять место в очереди друзей будущей знаменитости.
На Соню оборачивались даже мастера. Анна услыхала, как один худой парень со смехом спросил у своего коллеги:
— Смотри, какая красотка! Не хочешь ею заняться?
Второй ответил ему:
— Нет! Моя подружка очень ревнива!
Проводив Соню с Анной и Митей до порога, мадам Хольт вручила им свою визитку и сказала, что она непременно свяжется с бюро, чтоб узнать о решении родителей Сони.
В общежитии Анна поднялась сначала к родителям Сони — они жили двумя этажами ниже. Попала некстати — стол был накрыт, все ждали Соню к обеду.
— Покажитесь-ка… — попросила Евгения, и Анна, Митя и Соня показали свои новые причёски.
— Честно сказать — ничего особенного… Думала, что вы вернётесь неузнаваемыми… — разочарованно произнесла Евгения.
А Сергей, отец Сони, мрачновато произнёс:
— Слишком вы падки на всё французское.
Анна и Соня, переглянувшись, решили сейчас ничего не говорить ему о приглашении мадам Хольт.
Через несколько дней Анна встретила Евгению и Соню у лифта — они возвращались с арабского рынка с полными пакетами овощей и фруктов.
Пока ждали опускающегося лифта, Соня сказала:
— А вы знаете, Аня, папа не разрешает мне туда поехать, на этот фестиваль…
Евгения пожала плечами:
— Отец боится за тебя — языка не знаешь, нигде ещё не была… Когда-нибудь станешь матерью, поймёшь наши чувства!
Анна всё понимала, но ей при этом было жаль расстроенную Соню.
— Как мне сказала эта дама, Мари Хольт, там будут и другие непрофессиональные модели — студентки, школьницы…
— Ой, — вздохнула Сонина мама, — попробуйте поговорить с Сергеем, может быть, он вас послушает!..
Анна пришла к ним вечером. В комнате были только Сергей и Евгения — Соня повела брата к афганскому мальчику на день рождения, который праздновался в кухне второго этажа. Туда же отправился и Митя, выбрав из своих машинок подарок для Али, темноволосого красавчика, любимчика всех жильцов.
— Я обещала Мари Хольт поговорить с вами… — начала Анна, не теряя времени.
— Не нужно говорить мне об этой лавочнице! Я старого воспитания — не люблю капиталистов.
— Причём тут капитализм, Сергей... Ваша дочь, может быть, будет помнить о том, что вы не пустили её на этот международный показ, всю жизнь. Посмотрите на всё это её глазами: вот это, — Анна показала на потёртую общежитскую мебель, — и праздник моды, красоты… Это же совсем другой мир!.. Ей шестнадцать лет. И она у вас очень чистый и гармоничный человечек. Мне кажется, что вы можете доверять своей дочери — она не начнёт пьянствовать, курить анашу или вести разгульную жизнь на этом самом празднике.
— И этот чистый гармоничный человечек останется дома! Она будет видеть жизнь такой, какая есть! Я понимаю, что вы хорошо к Соне относитесь, поэтому и устроили здесь митинг в защиту прав подростков, но я её не отпущу.
Через несколько дней Соня прибежала к Анне сияющая:
— Папа мне разрешил туда поехать!
— Но почему?!.
— К нам пришла целая делегация от Мари Хольт. С ней были Натали и ещё одна девушка, которая работает в бюро. И они даже пригласили русскую переводчицу для этой беседы. Папа поначалу отказывался от их предложения, а потом согласился. Хольт сказала, что хорошо заплатит мне, вот папа и разрешил мне ехать. А кто-то из соседей сказал папе, что если я стану здесь известной моделью, нам легко дадут французское гражданство…
— Когда вы едете?
— Через неделю!
Соня заразила всех знакомых ожиданием праздника, она даже стала улыбчивей и мягче.
Проводив Соню, её родители быстро заскучали. Сергей волновался больше Евгении, он опять начал курить и часто уходил побродить по улицам.
Возвращение Сони
Когда Соня вернулась, её причёска сильно изменилась, стала стильной и оригинальной. Она и сама похорошела, но при этом осталась всё той же Соней.
— Мы ехали недолго, — рассказывала она. — Во Франции всё, оказывается, близко — и в Виттеле мы были уже через три часа. Мама одной девочки везла нас, четверых непрофессиональных моделей, на машине. Расселили нас в хорошем отеле, с бассейном и шведским столом. Там было много профессиональных моделей, были и русские. Когда я сказала одной девушке, что я тоже русская, она начала меня постоянно критиковать за то, что я неправильно хожу, неправильно двигаюсь... Профессиональные манекенщицы почти ничего не ели в ресторане, брали только листик салата и маленький кусочек вареной рыбки. Мы по сравнению с ними были настоящими обжорами… Сам праздник длился три дня, а перед этим мы несколько дней репетировали. У Мари Хольт была очень красивая постановка — "Времена года"; я была на сцене "осенью".
— Да ты же у нас весна! — сказала Евгения.
— Нет, визажист и Рашель сказали, что во мне есть что-то осеннее — цвет волос, тип лица… Что во мне есть какая-то грусть.
Тут не выдержал Сергей:
— Нет в тебе никакой грусти, это они тебя под свою постановку примеряли — осень нашли!
— Это как раз ерунда, пап, у меня была самая красивая одежда — красный плащ, который я сбрасывала на сцене, а Мари Хольт начинала стричь меня.
— Так тебя на сцене стригли?!
— Да, это же не просто дефиле причёсок, это показательные выступления знаменитых парикмахеров, которые задают моду на причёски на следующий год. Там было столько тележурналистов! Идёшь по сцене — и ничего не видишь из-за вспышек камер! Мари Хольт обещала мне фото дать и даже видеосюжет показать. Она осталась там, но когда приедет — позвонит.
— А она тебе ничего не заплатила? — спросила Анна.
— Нет, она сказала, что когда вернётся в Лион — заплатит.
— Может и не заплатить, — засомневался Сергей. — Никаких обязательств у неё нет: вы же с ней не подписали контракт, так что доказательств, что ты на неё работала, у тебя нет.
— Пап, ну что ты сразу! — огорчилась Соня. — Она сказала, что понимает наше положение и не собирается делать на нашей бесправности деньги!
Евгения вздохнула:
— Главное, что ты посмотрела праздник, наша золушка!
— Деньги нам тоже бы не помешали, — хмуро отозвался Сергей, ставя точку своей непререкаемой правотой.
Вскоре Анна встретила Евгению на улице, и та рассказала ей конец этой истории:
— Нас вызвали в бюро несколько дней назад. Оказывается, Мари Хольт передала какой-то пакет для Сони. Я пошла туда одна, получила этот огромный пакет, расписалась за него. Принесла в комнату, а меня уже ждут мои, хотят подсчитать гонорар — мы же не знаем, сколько тут модели получают. Может, тысячу, может, пять тысяч... Открываем… и можете себе представить, Аня, что же там было…
— Что?!
Евгения усмехнулась:
— Целый мешок старой одежды! Старые свитера, истрёпанные джинсы, какие у нас в секонд-хенде никто не возьмёт… Даже старое бельё туда положила!
— Это ужасно! — Анна была поражена не меньше самой Евгении. — А как Соня на это отреагировала?
— Анечка… она так плакала...
Дневник Анны:
"Сегодня я мылась в душе, который расположен рядом с туалетом, в конце коридора. В помещении две кабинки и маленький коридор-предбанник. Вода из-под проржавевшего душа стекает тонкой струйкой, отчего я всегда мёрзну. Замёрзнув и в этот раз, я, накинув халат с намокшим рукавом (душ общий, поэтому одежду приходится брать с собой в кабину), выскочила в предбанник, чтобы там как следует вытереть голову.
В предбаннике в тусклом свете экономной лампочки две чернокожие голые женщины натирались мазью из круглой жестянки. Я от неожиданности просто опешила — чёрные тела заполонили весь коридорчик, сильный запах мускуса вызывал тошноту. Они не обращали на меня внимания, а я, набросив на голову полотенце, выскочила из этого сюрреалистического места, в который раз задумавшись, зачем и за что мне всё это терпеть…
А ещё я была в Париже…
Это город, в котором чувствуется дыхание истории. Французы рачительно собрали всё своё наследство: антиквариат и раритеты, разместив их в одном городе, как в квартире, где гордятся семейными портретами, но при этом не вывешивают их в передней.
Гуляя по Монмартру, я набрела на кафе, в котором пили кофе или играли в шахматы знаменитые писатели. На столиках там металлические пластинки с именами Сартра, Камю, Хемингуэя, Миллера… Я пыталась отыскать столик Сартра, но он был занят. Честь посидеть в такой компании обойдётся недёшево: чашка кофе стоит двадцать пять франков, в то время как везде — от десяти до пятнадцати.
Кафе это до сих считается богемным: гардеробщик при мне взял автограф у худого месье в чёрном длинном плаще. Престарелые дамы с тонкими талиями и наклеенными ресницами мне показались в этом месте не старухами, а постаревшими лолитами: столько надежды, столько запрещённого зова в их томных глазах! И так ощутимо пробирает холодом их одиночества...
Рядом с кафе бронзовый памятник Бонапарту; на постаменте, украшенном барельефами, выбиты даты его жизни и борьбы. Дата начала отступления из России — октябрь 1812 года. Всё-таки не снег и морозы прогнали Наполеона из России… А ведь именно снег мне называли почти все французы в качестве главной причины отступления, стоило только задеть эту тему."
Потомки
Однажды, проходя по узким улицам старого Лиона, Анна увидела витрину, расписанную в русском стиле, с надписью "Русская галерея". Открыв дверь, она наткнулась на господина средних лет, который собирался выходить.
— Вы хозяин?..
— Да, — ответил он, раздумывая, как бы ему вытащить из крошечной каморки на улицу расписной клавесин. — Вы хотите купить что-нибудь или просто посмотреть?
— Посмотреть…
— Сегодня уже поздно. Приходите в другой раз, мадам. Впрочем… что вас интересует?
— Я русская…
— Я понял.
— Просто увидела русскую галерея, вот и зашла, — объяснила Анна, уже сожалея об этом.
Владелец галереи смягчился:
— Да вы заходите в любое время, здесь собираются иногда русские эмигранты… Но сейчас я должен отвезти этот клавесин покупателю. Хотите мне помочь? Заодно я вас подкину до метро…
Загрузив клавесин в открытый багажник, он галантным жестом распахнул дверцу старенького "пежо". В машине владелец галереи представился Александром Голиковым, потомком князя Голикова, капитана броненосца "Потёмкин", убитого во время знаменитого восстания 1905 года. Крупный краснолицый человек, унаследовавший голубую кровь русских аристократов, был при этом похож скорее на американского фермера. Порода всё же сказывалась — в его ненавязчивой манере свободно говорить обо всем, не стесняя при этом своего собеседника. У метро Анна вышла, взяв номер телефона господина Голикова. Ею двигало желание понять, как сложилась жизнь потомков русских аристократов в эмиграции, стоило ли им менять прозябание в СССР с постоянной угрозой для жизни на выживание в чужой стране… Не для того, чтобы судить и вынести приговор, а для того, чтоб узнать ответ на вопрос, "зачем нам, поручик, чужая земля?"… Стоило ли им? Стоит ли ей?
Когда они через несколько дней встретились с Голиковым в галерее, тот рассказал Анне много любопытного:
— Мой прадед был убит матросом Матюшенко в 1905 году. Весь мир благодаря кинорежиссёру Эйзенштейну увидел червей в матросском обеде на броненосце. Так знайте, что эти плакатные кадры — враньё чистой воды! Мой прадед, капитан, ел ту же самую матросскую похлёбку. Даже адмирал флота ел из матросского котла… После революции моя прабабушка эмигрировала во Францию, так как её дом в Одессе был занят революционерами, а нашу семью хотели убить матросы. Я, кстати, недавно побывал в этом доме — во время СССР там открыли Дворец пионеров… Меня воспитала моя удивительная бабушка! Она не посылала меня в школу и не разбирала чемоданы — всё ждала момента вернуться в Россию. Мы тогда жили под Греноблем, где в годы моего детства была русская община. Мне повезло — я видел старых русских княгинь и графов, которые были людьми необыкновенными: даже сильно нуждаясь, они никогда не позволяли себе горевать о деньгах или плохо выглядеть. Я преклоняюсь перед этими людьми — потерявшими всё на свете, кроме своего внутреннего стержня. Таких людей уж нет… Самое трудное в эмиграции — остаться самим собой. Именно за это приходится побороться, — признавался Голиков и подливал Анне чай в керамическую чашку, на дне которой керамическая жаба пускала пузыри…
Дневник Анны:
"Кровь русских аристократов, смешавшись с французской кровью, даёт в потомках известных фамилий сочетание жизнестойкое, практическое и даже прагматичное. Тонко наслаждаясь своей чужеродностью в среде средних французских обывателей, они уже не нуждаются в поиске смысла. Даже сакраментальный вопрос, зачем им чужая земля, перед ними не маячит: между двух земель, своей и чужой, тоже, оказывается, есть жизнь, хоть и полная внутренних компромиссов.
Впрочем, никто из здравомыслящих людей эмигрировать не будет. Эмиграция — это катастрофа, сдвиг всех родовых пластов, потеря себя.
Всё наше общежитие наполнено людьми, которые оторвались от своих домов, от родных, от своего языка и повседневности. Жизнь продолжается — люди едят, ходят в гости, влюбляются, женятся, рожают детей, но в каждом из обитателей этого дома заметна какая-то оцепенелость чувств. Все старожилы постепенно теряют интерес друг к другу, на их лицах появляются усталые гримасы, напоминающие улыбки...
Сначала эта блочная семиэтажка мышиного цвета мне показалась ковчегом, в котором каждая нация спасается от горя, наводнившего мир, — от нищеты, бомбардировок, бандитизма… Теперь же это здание мне всё больше кажется чистилищем, где мы должны вспомнить и осознать боль, которую причинили кому-то…
Или мы забыли Бога,
Или Бог забыл про нас..."
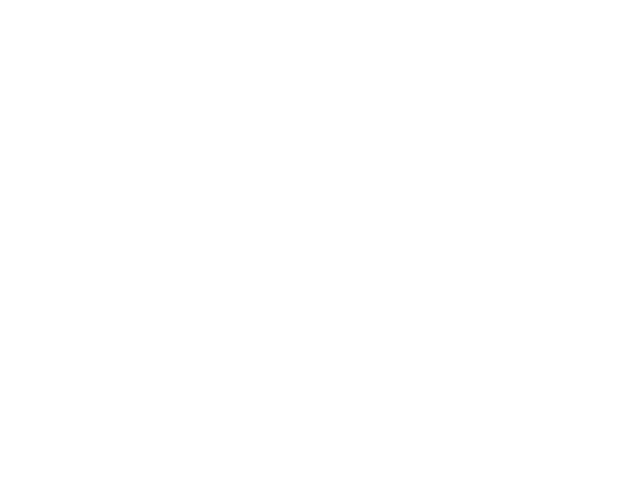
Дневник Анны:
"Привокзальную площадь заполонили цыгане из Румынии. Для французов цыган — это румын, а французских цыган здесь называют людьми путешествия.
Цыганам на площади всё равно, как называют их французы. Они целыми днями гомонят на привокзальной площади Лиона, что-то шумно обсуждают, весело попрошайничают мимоходом, не зная проблем с потерей самоидентификации в чужой стране. Народ-странник… На фоне западных детей, привыкших к дисциплине, цыганские дети поражают своей живучестью, хваткостью, приспособляемостью к любым условиям. Сегодня я не могла насмотреться на цыганского малыша. Пятнадцатилетняя многодетная мать кормила грудью другого своего младенца, успевая курить при этом и бойко болтать с товаркой. Её полуторагодовалый сын остался без присмотра и уковылял довольно далеко, а она не обращала на него никакого внимания. Остановившись, ребёнок осмотрелся, потянул носом воздух и понял, что он отстал от стада. Он не стал плакать, хотя было видно, что испугался, встал на четвереньки, что для него было более удобным способом передвижения, и быстро побежал на четвереньках в сторону своих. По пути он нашёл какую-то булку на земле, откусил от нее, вернувшись к матери, которая даже не заметила его долгого отсутствия. Мать приласкала его громкой оплеухой, и он весело закричал от переполнявшей его радости бытия. Что мы теряем в своём цивилизованном существовании?.. Отчего наши европейские дети бледны и скучны?.."
За стеклом
Проходя по улице, Анна чувствовала себя… как за стеклом — она видна прохожим, её обходят, ей говорят "пардон", если толкнут нечаянно, но при этом она будто бы в другом измерении — никому не нужна, никто не знает её и знать не хочет. Хоть кричи, хоть бейся — этого стекла не пробить...
На автобусной остановке Митя устал, она держала его на руках. Рядом затормозил автомобиль, и француз средних лет, многозначительно состроив глазки, предложил довезти. Анна удивилась и отказалась наотрез — не потому, что боялась, просто не было сил на пересечение огромной пропасти между ней и этим благополучным человеком.
Эмиграция — это экзистенциализм чистой воды. Когда она училась в университете, они читали Камю и Сартра. Тогда же появилась мода на экзистенциальное неблагополучие в их кругу: кто-то лёг в психиатрическую лечебницу, кто-то стал одеваться в грязные джинсы, заправляя их в резиновые сапоги. Если бы они только знали, что такое настоящий экзистенциализм!..
Анна шла по улицам западного города, уставленного роскошными католическими храмами, и чувствовала себя стеклянным шариком, который катится неизвестно куда и зачем. Она понимала, что её хрупкость — всего лишь одна из форм существования в этом мире, в котором каждый из живущих не знает, что с ним или его близкими случится через мгновение. Все люди хрупкие, как стеклянные шарики… они катятся по улицам, но мало кто из них задумывается о будущем.
Однажды она видела аварию — ревущий мотоцикл выскочил на тротуар и въехал в стену дома. Водитель мотоцикла умер сразу, какой-то сердобольный старый араб притащил из дома одеяло, чтоб накрыть его покорёженное тело. А ведь ещё пять минут назад он был жив, гнал на мотоцикле, пьянея от скорости и думая о встрече с подружкой. Жизнь всех людей экзистенциальна. Никто не знает, что с ним случится через минуту. Но у граждан своей страны есть хотя бы какой-то налаженный ритм, есть планы, мечты… У беженцев ничего этого нет — ни имущества, ни дома, ни планов.
Марина
Марина получила отказ из Парижа.
Она не сразу открыла дверь, но Анна так тихо и настойчиво стучала, что та сдалась. На щеке у Марины остались две красные полоски — долго лежала на щеке.
Анна вошла чуть виновато и села у стола — другого места в этой маленькой комнате не было. Обе молчали.
— Они как-то объяснили отказ?
— Написали, что просто встревожены. Что никаких конкретных угроз нет…
Она говорила тихо, и Анна не узнавала в этой постаревшей женщине шумную и энергичную Марину.
— А что бюро говорит — можно обжаловать это решение?
— Говорят, что через восемь дней я должна покинуть общежитие. А куда мне идти с ребёнком, я не знаю. Ходила сегодня в ассоциацию помощи бездомным; пошла вместе с Шако — думаю, может, пожалеют ребёнка, дадут что-нибудь… А там все с детьми, всем говорят одно и то же — своих бездомных некуда девать. Не знаю, правда это или нет, но они говорят, что даже французы с детьми на улице живут, потому что для них нет мест в общежитиях.
— Ну-у… я не видела детей на улицах. Взрослых видела, бомжей… Детей — нет.
— Врут, наверное, — равнодушно согласилась Марина.
— Знаешь, Анька, я не знаю, куда мне пойти, куда поехать, да и денег у меня только на билет в один конец. И у меня сейчас появилось отвращение к своему телу: это ведь оно просит ночлега, крыши над головой, еды, чистой одежды… Оно у меня большое, рослое, ему много места надо... Никогда в жизни у меня не было ничего подобного — так ненавидеть собственное тело...
— Марина, — прервала её Анна, — а твой арабский друг… Может он помочь — снять квартиру для тебя?
— На моё имя не сдадут — нет паспорта. А на его имя он сам не захочет — он знает, что у меня нет денег платить каждый месяц, — слишком рассудительно отвечала ей Марина, глядя куда-то перед собой.
— Ну и что тебе делать? Что?! — закричала на неё Анна. — Не сиди так в своей комнате, откуда тебя всё равно выкурят, придумай что-нибудь!
Марина ничего не отвечала.
— Может, тебе в Грузию вернуться?
— Где меня мой муж на второй день зарежет?! Ты что, не знаешь, почему я оттуда уехала?.. Никакая политическая партия меня бы не испугала так сильно, чтобы я от папы с мамой уехала! Это для этого концлагеря важны политические причины, а человеческих причин они не принимают, не признают, как будто угроза для жизни может быть только политическая! Я их ненавижу, этих французов, они все пресные, жадные… Пожалели паспорта для меня и моего сына, а арабов и чёрных пачками берут! Почему так?! Чёрная шалава с пятого этажа — страшная, как моя жизнь в этом хлеву! — она вчера получила согласие! Она ведь беженка… А я получила отказ. Нас почти в одно время вызывали в бюро… И эта курва чёрная теперь считается француженкой! А мне — куда мне пойти с моим ребёнком?! А-а-а! — закричала Марина так страшно, так безысходно, что у Анны заныло сердце.
— Не надо, не кричи так! Я позвоню в одну редакцию, расскажу им, что тебе некуда уходить… может быть, они помогут. Не кричи!
Анна спустилась к автомату и набрала номер своей знакомой журналистки Мириам Монд. Чётко изложив ситуацию, она услышала в ответ:
— Да, тяжело... Но я могу назвать это типичной ситуацией — жилья не хватает на всех, это правда. Но я подумаю, что можно сделать для вашей знакомой и её ребёнка...
Дневник Анны:
"Мириам связалась с ассоциацией, защищающей права одиноких матерей, и договорилась о встрече с ними для Марины.
На следующий день рано утром мы с Мариной приехали в центр Лиона, на центральную площадь города. Её нам дали в качестве ориентира, так как мы не слишком хорошо ориентируемся в здешних местах. Став спиной к памятнику Луи XIV — так, чтоб голова его коня смотрела нам в спину, мы минули несколько кварталов и через пару перекрёстков нашли нужный нам адрес. Лил сильный дождь, и мы ввалились в ассоциацию как две мокрые ощипанные курицы.
В этой ассоциации самое важное лицо — секретарша, напоминающая Эдит Пиаф, с прокуренным голосом и бойкими манерами. Она приказала нам ждать, и мы послушно сели — да и кто бы в подобной ситуации ослушался. Ждали мы минут сорок; под конец нам очень хотелось встать и хлопнуть дверью — кто заставит ждать бедных просителей почти час…
Нас принял усатый дородный месье — социальный ассистент. Он извинился за опоздание, сказал, что у них было какое-то важное и срочное совещание. Но нам уже было не до обид и не до их демонстраций.
Ассистент выслушал мой сбивчивый рассказ о Марининой ситуации, при этом она показывала ему фотографию Шако, чтоб растрогать (она пожалела будить и тащить сына сюда, но прихватила его фото! — узнаю прежнюю Марину).
Кажется, усатый социальный сотрудник понял всю серьёзность положения Марины — одна, без денег, без жилья в чужой стране, с ребёнком на руках! — но помочь ничем не смог. Он сказал, что его ассоциация ищет жильё только избитым жёнам, когда есть прямая угроза жизни ребёнку и матери, поэтому Марина не в их компетенции. Но он дал Марине адреса ассоциаций, которые помогают с жильём лицам без бумаг. Он предупредил, что нужно предварительно позвонить, чтоб договориться о встрече. Чтоб ускорить встречу, можно сослаться на его имя, которое он написал на бумажке.
Мы шли по улицам города и были чужими на этом празднике жизни. Если бы я не знала Марину и её сына, милого Шако, я бы так не переживала за них: я стала замечать, что моё сердце начало экономить на сострадании, как будто для того, чтобы сберечь силы для себя самой. Но сейчас моё сердце просто разрывалось от страха за их будущее — куда они пойдут, как решится их участь?.. Нужно что-то делать!"
* * *
Всю неделю Анна и Марина ходили по ассоциациям и общежитиям, везде получая отказ. Приближался день выселения, а решения не было. Обе устали, похудели и простудились под весенними холодными дождями, обрушившимися на город в ту неделю.
В воскресенье Марина нарядилась, накрасилась, приклеила ногти, подкинув Анне Шако и сказав только, что вернётся поздно. Вернулась она лишь на следующий день, признавшись Анне, что они с Шако завтра переезжают.
— Куда?!.
— Я познакомилась с хорошим человеком. Он старше меня, но у него свой дом в деревне. Я ему очень понравилась, он сказал, что я похожа на его мать в молодости.
— А как вы?..
— Он нам наймёт адвоката, который продолжит наше дело — будем жить у него и добиваться статуса… Если понадобится, выйду замуж за Мохаммеда, чтобы Шако рос в нормальной стране.
На следующий день Анна увидела Мохаммеда — это был маленького роста пожилой араб, который улыбался и добродушно гладил Шако по голове. Мальчик ел шоколадку, которую ему привёз Мохаммед, и застенчиво вжимал голову в плечи.
Марина избегала смотреть на Анну.
— Ты меня не бойся, Шака, — обращался Мохаммед к Шако. — У меня хороший домик, ты там будешь хорошо жить. Я не злой, — и делал при этом страшную гримасу, в ответ на которую Шако смеялся.
Мохаммед подмигнул Анне:
— Она храпит — всю ночь не давала мне спать. Я чуть из дома не убежал.
Марина снисходительно улыбнулась.
Когда он понёс в машину её чемодан, Марина быстро сказала Анне:
— Ты только не проболтайся. Я ему ничего не сказала о том, что меня отсюда выгоняют.
Дневник Анны:
"Вот так мы расстались с Мариной. Обещались звонить друг другу, но мне кажется, что мы могли понимать друг друга только в этом общежитии.
Её живучесть восхищает меня — кто бы ещё смог так быстро найти выход из безвыходной ситуации. Но мне стыдно было смотреть на Шако… Я бы ни за что не смогла устроить такое Митьке.
Марина поделилась со мной рецептом завоевания пожилых арабов, ненадолго снова став самой собой — ироничной свободной грузинкой: ночь любви, сказки о своей жизни, и приготовленное для воздыхателя сациви. Важнее всего, по её словам, сациви.
Уходя, Марина вдруг обернулась ко мне:
— Знаешь, отчего я так прикипела к тебе?
Я удивлённо покачала головой: не знаю, мол.
— Мне понравилось, что ты не обратила внимания на мои слова, когда мы с тобой только познакомились. Помнишь, я говорила много ерунды насчёт твоей внешности, вкуса и ума?.. Люди часто клюют на такой приём, начинают зазнаваться после моих комплиментов. А для тебя похвалы ничего не значили, это ничего не изменило. Я почувствовала, что ты настоящая…
— А я принимала тебя за стихию, считала непредсказуемой… как море у вас в Батуми.
— Жаль, что мы больше не будем с тобой так дружить, как здесь. Здесь мы были все вместе, как на войне… А теперь разойдёмся в разные стороны… кто знает, может я у тебя ещё какого-нибудь француза отобью! — рассмеялась Марина.
— Как ты можешь такое говорить! Ты же теперь верная мусульманская жена! — я пыталась за шуткой скрыть горечь от её последних слов.
— Ты что, смеёшься, что ли?! Я с ним на полгода — пока нового суда жду!"
Рождение Анны-Лионы
В общежитии часто случались конфликты из-за детей. Сначала дрались дети, потом приходилось разнимать их родителей. На первом этаже однажды подрались два мальчика лет пяти, иранец и ливанец. Дрались не на жизнь, а на смерть — с резкими выкриками для устрашения противника, с кулачными ударами, с резкими подножками. Падали, поднимались, опять дрались. Никто не сумел их разнять. Мать ливанца — худая маленькая женщина с яркой косметикой на лице, яростно вмешалась, пиная противника её сына. Пава, так звали того мальчугана, громко вопя, побежал жаловаться своему отцу, который добавил сыну ещё и от себя, чтоб не дрался с кем ни попадя. Пава, получив крепкого тумака от отца, от такой несправедливости затаил обиду на своего противника и его родителей: каждый раз, проходя мимо их двери, он плевался или бросал в неё куски грязи. Его ловили, наказывали, кричали на него, но через день он начинал всё заново.
В дело вмешалась мать Павы, иранка Халима, полная высокая женщина с ямочками на щеках. Она пригласила ливанку к себе — и за чашкой кофе они помирились.
В семье иранского губернатора, мужа Халимы, сбежавшего из Ирана во Францию от своего политического врага, было трое детей. Четвёртый ребёнок остался на родине, он умер от неизвестной болезни. Халима была на седьмом месяце беременности, когда они приехали во Францию, из-за беременности им и выделили жильё в общежитии.
Письмо Анны:
"Я переживаю какое-то необыкновенное состояние. Мне показалось, что в мир вернулся смысл, который я давно уже утеряла. Я ведь живу только сегодняшним днём, все мои заботы — накормить Митю, написать письмо адвокату…
Позавчера утром меня позвали к Халиме — у неё начались роды. Эта женщина — мать четверых детей, одного из которых она потеряла в Иране, не говорит по-французски. Только по-английски. Муж её привёз всю семью сюда, спасаясь от казни. Митя подружился с её младшим сыном Павой, поэтому мы с ней познакомились, даже подружились. Халима — живая, чуткая женщина. У неё хорошее чувство юмора, которое смягчает пребывание всей её многочисленной семейки здесь, на чужбине. Мне кажется, что она и мне сознательно помогала — смешила, тормошила, когда я тосковала.
Работник бюро, молодой парень, был перепуган предстоящим событием, а скорая помощь не выезжала без подтверждения, что эти начавшиеся схватки не ложные. Этот испуганный ассистент позвал меня и передал мне телефонную трубку. Равнодушный голос объяснил мне, сонной и тоже немного перепуганной, как нужно считать секунды между схватками. Я, взяв себя в руки, начала считать — выходило по двадцать секунд между второй, третьей и четвёртой схватками. Халима улыбалась нам между приступами боли, но её смуглое лицо уже побелело. И вдруг между следующими схватками перерыв получился всего пятнадцать секунд. Я тут же доложила в трубку, что у неё настоящие схватки, пусть приезжают! А в ответ, совсем как у нас, равнодушный сонный голос:
— Мало машин на линии…
Если б мне ответили не по-французски, я бы подумала, что я всё ещё на родине!
— Мадам, — говорю я в трубку, — у этой женщины всё может произойти очень быстро, у неё пятые роды!
— Нет, можно ещё подождать, — отвечает мне тот же голос.
— У неё начались настоящие роды. Если что-то случится с ребёнком, я пойду в газету и напишу статью про вас, я журналист!
— Да вы сначала говорить научитесь по-французски, — вяло замечает дама, но всё-таки сообщает через паузу: — Бригада выезжает. Пусть её встретят возле вашего общежития.
Мы погрузили Халиму в машину, и тут она попросила:
— Аниа, поедем со мной — я там ничего не пойму по-французски. Я боюсь!
Она мне так вцепилась в руку, что я не могла вырваться — до сих пор у меня остались синяки на запястье. Муж Халимы тоже слёзно начал умолять меня ехать с ней.
— Я не могу, — ответила я. — У меня сын дома спит.
Муж чуть на колени не встал передо мной — сказал, что он разбудит Митю и заберёт его к себе, чтобы дети с ним поиграли.
Тут на нас прикрикнули акушеры, что пора ехать, быстро закрыли двери… и я поехала в роддом.
В приёмной Халиме задавали вопросы — кто, что и откуда; я переводила, а она уже начала кричать от потуг, тут же начав рожать. Прибежал врач, медсестра принесла кислородную маску, а Халима не отпускала моей руки и кричала так, что напугала меня — я даже подумала, что она умирает, но как раз в этот момент она и родила. В рубашке у неё закопошилось крошечное существо в сгустках крови, акушеры даже не успели принять ребенка — так стремительно он вышел на свет…
Халима родила девочку. Девочка получилась крохотной, но живучей, покрытой тёмным пушком по всему телу, как маленький прекрасный зверёк."
* * *
Вернувшись в общежитие, Анна зашла к мужу Халимы, чтобы поздравить его с новорожденной и забрать Митю. Дверь была закрыта на замок. Анна постучала — никто не ответил. Она подумала, что отец отвёл детей на детскую площадку, но не увидела во дворе ни души. Начиная нервничать, она услышала между этажами детские голоса. Оказалось, что дети, сидя на полу, играют в карты. На Митином лице была свежая царапина.
— С кем ты подрался, Митя?
— Это его брат меня ударил, — показал Митя на Паву. Пава, догадавшись, о чём речь, это подтвердил.
— За что он тебя побил?
— За то, что я у него велосипед взял.
— А почему вы сидите тут, да еще и на полу? Здесь грязно и холодно, пошли домой!
Когда они все вместе поднялись на свой этаж и свернули в коридор, дверь комнаты Халимы тихонько открылась, оттуда выскользнула худая чёрная ливанка — та самая, которая избила когда-то Паву, заслужив кличку от Халимы. Когда Пава постучал, его папаша открыл дверь и с преувеличенной радостью закивал головой, заметив удаляющуюся Анну. Знаками он спросил её, как там дела в роддоме у его жены.
— Халима родила девочку, — по-английски сказала ему Анна.
Мужчина оживился, подошёл к Анне и попытался пожать ей руку. Брезгливо выдернув свою ладонь, она ушла, а дома долго мылила и тёрла щёткой руки.
После пережитого в роддоме у неё не осталось никаких эмоций. Она очень устала, хоть и не так, конечно, как Халима, только что в муках родившая своему беспутному мужу пятое дитя.
Письмо Анны:
"Я забрала Митю у мужа Халимы — только сейчас поняла, что я, оказывается, не знаю его имени — и пошла по своим делам. И целый день у меня было такое чувство, как будто у меня в жизни случилось что-то замечательное и значительное.
Кстати, девочку они назвали Анной-Лионой, так язычески обозначив мою помощь в родах и место рождения дочери."
Дневник Анны:
"Весной Мурад, наш учитель французского, спросил нас на уроке:
— Куда бы вы хотели пойти в Лионе? Что вас интересует?
Мы вразнобой назвали несколько мест: кино, музей, экскурсия на корабле по реке Рон. Нам пообещали организовать все эти немудрёные развлечения. И не обманули.
Когда настал день музея, нас привели… в зоологический музей. Оказывается, Мурад не знал, что существуют музеи живописи. Я была вначале разочарована — я ждала других впечатлений, эстетических, по которым испытываю настоящий голод в последнее время. Но экспозиция оказалась великолепной: динозавры, птеродактили в натуральную величину, бабочки и змеи невиданных размеров и окрасов. Митя был потрясён. Правда, он быстро устал от всех впечатлений, закапризничал, но вначале с открытым ртом уставился на динозавров, которые равнодушно смотрели куда-то мимо нас своими стеклянными глазами.
В начале мая, когда в Лионе проходила международная выставка современного искусства, пригласительные билеты дали только мне с Митей. Выставка проводилась в концертном зале, выставочном комплексе, а ещё семьдесят лет назад это помещение было скотобойней, где потолок был устроен из железных балок, по которым передвигались убивающие и обдирающие механизмы и замораживающие устройства.
Выставка, представляющая несколько сотен работ из разных стран мира, состояла из инсталляций. Современное изобразительное искусство во всём мире переходит на инсталляции.
Идеи некоторых инсталляций очень актуальны: например, чтоб обратить внимание на экологическую проблему нашей планеты, художник из ЮАР сделал огромный глобус — метра два диаметром. И весь этот шар он усеял мёртвыми жуками. Сколько же жуков он заморил для своей экологической постановки! Проспект выставки равнодушно сообщил, что более пяти тысяч... Может, я уже сумасшедшая, и незачем обращать внимание на такие вещи? Может быть, принеся в жертву зелёных жуков, этот художник хотел вызвать особого рода переживания за экологию в своих зрителях?..
Другая постановка — кухня в натуральную величину: шкафы, плита, микроволновка, холодильник, мойка. Разноцветная кухня эта была собрана из бисера. Автор таким образом хотел обратить внимание людей на кропотливый ежедневный домашний труд женщин.
Был ещё выставлен русский фотограф — Михайлов. Он выбрал для этого ежегодного биеннале тему, связанную с русскими бомжами. Фотографии пьяниц и бомжей в роскошных тёмно-красных интерьерах собрали много зрителей. Особенно много народа рассматривали фото пьяной бабки, раздетой до трусов, у которой её напарник, такой же бомж, поддерживал огромную, с голову ребенка, грыжу на весу. У обоих были лица обиженных старых детей.
Был представлен чёрно-белый фильм американского режиссёра марокканского происхождения. В нём говорилось о провинциальных мусульманских женщинах, которых покидают мужчины, уходя в города и уезжая в другие страны. Женщины овечьим стадом следуют за мужчинами на пристань, машут им руками вслед, потом долго стоят и смотрят, ничего не понимая в этом мире… Двадцатиминутный фильм был сделан настолько серьёзно, что эта далёкая проблема из абсолютно чуждого мира задела меня. Однажды во время студенческой практики я была в командировке в северной деревне. Меня пригласили в бревенчатый дом выпить чаю. Хозяйка дома, женщина лет пятидесяти, выставила на стол самовар, конфеты, варенье, и мы разговаривали с ней обо всём на свете. Во время разговора в комнату вошёл застенчивый парень лет двадцати пяти.
— Это мой сын, — сказала хозяйка. И спросила меня, замужем ли я.
Услышав такое, её сын выбежал, подумав, что его сейчас начнут сватать.
— Замужем, — призналась я.
— А у нас в деревне ни одной девки, — вздохнула она. — А моему-то жениться пора. Вона, какой богатырь пропадает…
— Пусть в город едет, — посоветовала я.
— А меня — бросит? А дом? Скотина ведь у нас — сена-то сколь нужно…
Ещё почему-то вспомнилось, как однажды на втором курсе я вышла зимой на крыльцо нашего журфака. Воздух был синий, уже наступили сумерки, но с нашего крыльца ещё был виден Александровский сад… И там, на этом крыльце, вдохнув свежего январского воздуха, я вдруг почувствовала себя счастливой! Достоевский писал, что у людей в детстве и в юности бывают такие особые моменты, которые их потом спасают в жизни. Те, на снежном крыльце, мгновения меня до сих пор спасают. Я не забыла, что бывает ощущение полноты и осмысленности бытия..."
Повестка
Из бюро принесли бумагу: "Мадам Журавлёва, на ваше имя получено заказное письмо. Просим явиться для получения корреспонденции сегодня после обеда".
В этом письме, которое было вскрыто и прочитано с неожиданной дрожью в руках и ногах, оказалась повестка в суд на рассмотрение просьбы о предоставлении статуса.
Дата рассмотрения просьбы была назначена на 14 июня.
— Вас вызывают в суд? — спросила Натали.
— Да.
— На какое число?
— Четырнадцатое июня.
— Но это невозможно! — удивилась Натали. — Это же День Бастилии!
— Июня, не июля.
— У вас такое произношение, что я услышала "июля"… Документы у вас готовы?
— Да.
Когда Анна уже выходила, Натали крикнула ей вслед:
— А с кем вы оставите ребёнка? Билеты на него не предусмотрены!
— Я подумаю… — вздохнула она.
Дневник Анны:
"14 июня, в день суда, я выехала шестичасовым поездом из Лиона в Париж. Митя спал, Марина должна была забрать его утром.
Это событие, судебное заседание для рассмотрения просьбы о статусе политического беженца, очень тяжёлое и нервное, так как именно этот суд решает дальнейшую судьбу обитателей и нашего общежития, и сотен таких домов по всей Франции. В случае позитивного решения счастливого беженца под завистливыми взглядами соседей переселяют из общежития в квартиру, ему назначают пособие и предоставляют право получить любую профессию — от парикмахера до кинорежиссёра. Если же человек получает отказ, то его выселяют из общежития на улицу и лишают пособия, а то, как он будет дальше жить — это никого не волнует.
Поэтому сказать, что я боялась, это ещё ничего не сказать. И почему-то всё время хотелось смеяться. Я видела смешное во всём: вот какая-то пара целуется — это оказывается, очень смешно, такая страсть в поезде в шесть часов утра! Когда хрюкнуло радио и, прокашлявшись, объявило о возможном опоздании, я тоже чуть не рассмеялась в ответ. Контролёр с манерами гомосексуалиста взял мой билет на проверку и уронил его мне же на голову — и я уже еле сдерживалась от душившего меня смеха.
И вот Париж! У меня в запасе полтора часа. Я сажусь в метро. Здешнее метро напоминает общественный туалет — кафельная плитка грязно-зелёного цвета, нет указателей, тупики на платформах, старые раздолбанные поезда с дверями, открывать которые нужно самим пассажирам. Добираюсь с пересадкой до нужной станции, выхожу и через пять минут обнаруживаю здание суда. Меня трясёт, мне опять смешно. Чтобы успокоиться, иду в ближайшее кафе, заказываю кофе у стойки, что в два раза дешевле, чем кофе за столиком, не спеша пью и стараюсь успокоиться. Думаю о Мите, волнуюсь — как он там… Каким он запомнит своё детство? Долгие переезды, ночлежки, общежитие беженцев, драки с арабами-сверстниками…
Допиваю кофе, выхожу из кафе и иду к серому зданию суда. На входе вооружённые охранники просят показать повестку и документы, затем объясняют мне, что зал номер девять на первом этаже направо.
Чувство… как перед операцией. Вхожу в зал. Там уже много народу — разбираются ещё два дела. Судья — седой пожилой месье; кроме него — два общественных заседателя слева и справа от судьи. Секретарь судебного заседания, адвокаты, переводчики, сами просители, публика из числа студентов-практикантов с юридического факультета и их профессор.
Слушается дело индуса, который живёт в Бангладеш. Он преследуется местными властями за нападение на посольство, которое было организовано местными террористами. Он открещивается от всех обвинений, представляет алиби — написанные от руки свидетельства его соседей. Судья, высокомерно разговаривая, отмахивается от его бумаг. Индус горячится, доказывает, его адвокат тоже пытается что-то объяснить... Кажется, исход этого дела всем ясен: студенты в сторонке о чём-то говорят между собой, качая головами.
Вызывают вьетнамку. Немолодая женщина, скромно одетая, держится с почтением, но она почему-то мне кажется неприятной. Может, дело в её излишней почтительности, с которой она кланяется суду? Хотя в такой ситуации мне трудно быть беспристрастной. При всей своей угодливости, вьетнамка держится увереннее, чем предыдущий истец. У неё отлично подготовленное досье — с видеосюжетом, доказывающим её участие в антиправительственной демонстрации.
— Но вашего лица не видно в толпе! — возражает судья.
— Я там была, месье. После этого меня начали преследовать из-за моей политической деятельности.
— Какой именно?
— Политической, месье.
В зале лёгкий смех.
Судья работает на публику, недоверчиво двигая бровями.
— Хорошо, мадам, продолжайте свой рассказ…
При этом лицо судьи кривится в лёгкой презрительной гримасе.
Вьетнамка продолжает:
— Я выбрала Францию для политической эмиграции, потому что в этой стране проживает мой брат.
— Где именно?
— Под Парижем, месье. В Медоне. Он содержит ресторан, где работает вся его семья, месье.
И где, ясное дело, будет работать и она сама, политическая эмигрантка из Вьетнама.
Решение суда будет отправлено через три недели, об этом сказали индусу и вьетнамке. Сейчас моя очередь…
— Вы утверждаете, что жили в Риге. А сколько километров от Риги до русской границы?
— Я не знаю точно… Затрудняюсь ответить.
— Вы утверждаете, что работали журналисткой в популярной газете. Почему ваша газета не могла попросить для вас гражданства в Латвии или в России?
— Мне кажется, что не нужно преувеличивать всесилие прессы в России или Латвии.
После каждого подобного ответа судья приподнимал брови и удовлётворенно кивал, многозначительно оглядываясь на заседателей.
Мой адвокат пытался что-то говорить и объяснять, но судья его грубо прерывал…
Когда этот ужас закончился, я вышла в коридор и сказала адвокату:
— Это конец. Мне не дадут статуса! — и нервно рассмеялась."
Лион. Русская жена
В супермаркете Анна услышала русскую речь. Обернувшись, она увидела женщину.
— Вы русская? — спросила её Анна.
— Да, русская, — вежливо ответила собеседница.
— Давно не слышала на улицах русской речи…
— Да что вы! Здесь полно русских жён!.. Вы, наверное, недавно приехали?
— Полгода…
— А я уже четыре года здесь живу. Хотите, посидим в кафе, пообщаемся, если у вас есть время.
Расплатившись, они выбрали маленькое уютное кафе неподалеку, заказали кофе и разговорились.
Лариса, новая знакомая, оказалась из тех маленьких женщин, что берут судьбу за рога, устав надеяться на чудо. Она рассказала, что жила в Витебске, играла, как и её муж, в местном филармоническом оркестре, воспитывала детей. Жизнь как жизнь — с закулисными сплетнями, травлей конкурентов и экономией денег. Муж умер от сердечного приступа, случившегося во время репетиции. Это совпало с перестройкой и последующей инфляцией — обнищавшим людям стало не до классической музыки. Оркестр распался, Лариса, чтоб прокормить детей, нанялась продавцом на рынок, тянула семью и верила, что они ещё выкарабкаются. Однажды она познакомилась с женщиной, которая предложила выдать её замуж за обеспеченного иностранца. Лариса продала свою золотую цепочку и серёжки, сделала прическу, сфотографировалась в дорогом фотоателье, оплатила услуги брачной конторы и познакомилась по Интернету с пожилым французом. Вдовца из маленького провинциального городка в департаменте Рон угораздило познакомиться именно с Ларисой — женщиной, ожесточённой борьбой за выживание. Его романтичные представления о нежной славянской душе разбились о советскую практичность провинциальной музыкантши с еврейскими корнями и украинской фамилией. Его старость навсегда была отравлена горькими размышлениями о потерянных деньгах и об обманутом доверии: Лариса, прожив три года с вдовцом в маленьком французском городке, терпя его экономию, желчные замечания насчёт русской культуры и политики, изо всех сил изображая нежную и преданную жену, после получения французского гражданства с радостью высказала ему всё, что она о нём думает, и перебралась в Лион, столицу департамента Рон, город, в котором нашла себе жильё и работу…
— Забрала детей из Белоруссии, сейчас дочку выдаю замуж здесь, в Лионе, подаю на развод со своим бывшим, преподаю в консерватории по классу скрипки… Только сейчас начинаю жить, — вдохнула Лариса. — Ну а вы, как вы тут очутились, Анечка?
— Я беженка, — призналась Анна.
У Ларисы округлились глаза:
— Да вы что! С такой-то внешностью? Почему бы вам не присмотреть кого-нибудь из французов? Хотя бы ради паспорта… Посмотрите правде в глаза, Аня… У вас мало шансов получить статус беженца во Франции. Во-первых, они боятся красивых одиноких женщин из России, считая их проститутками. Вы ж видели, сколько у них своих девиц вдоль дорог стоит… Во-вторых, в России сейчас объявлена демократия, поэтому русским здесь паспорта не дают. Не теряйте времени на эти пустые надежды, моя дорогая!
Она стала так горячо доказывать Анне все выгоды брачного союза с французом, что Анна не выдержала:
— Знаете, Лариса, выйти замуж за случайного человека мне кажется ещё хуже, чем жизнь без паспорта и гражданства!
Лариса рассмеялась немного искусственно:
— Это только вы так думаете... Жалко вашего ребёночка, который живёт в общежитии. Вы, наверное, понимаете, какое будущее светит ему... Если вы думаете, что тысячи женщин идут на такие браки только для того, чтобы найти спутника жизни для себя, встретить любовь — вы ошибаетесь, моя дорогая. Идут ради детей, чтоб хотя бы они пожили нормальной жизнью, с материальной базой и возможностью получить хорошее образование… Жизнь — жестокая штука. За всё нужно платить. Я заплатила двумя годами со своим так называемым мужем. Как я там жила — этого никому не расскажу. А мои дети в это время были в Белоруссии, в семье у брата моего покойного мужа. Жили пасынками, их даже за стол звали, когда всё самое вкусное уже съели. А я каждый месяц деньги присылала на питание… — Лариса чуть не заплакала.
— Я не собиралась вас обидеть, Лариса, — заволновалась Анна. — Есть женщины, которые могут вытерпеть ради своих детей брак с нелюбимым мужчиной. Но я точно знаю, что не вытерплю…
— Да, это нелегко! — веско сказала Лариса. — Знаете, чем больше встречаюсь с русскими, тем меньше у меня желания в следующий раз разговаривать с ними. До свидания… точнее, прощайте! — последние слова она бросила уже через плечо.
Ресторан "Сердце"
Его придумал и организовал известный комик, двадцать лет назад хохмивший на всю Францию шутками, за которые бы сегодня его привлекли к суду антирасистские ассоциации.
В этот ресторан выстраивались за замороженными котлетами огромные очереди из беженцев, безработных и прочих людей, отверженных обществом. Анна приходила сюда раз в неделю. Ей выдавали на двоих три пакета молока, пакет печенья, пачку спагетти, кофе, конфитюр, сахар и шоколад в плитках. Иногда — компоты или йогурты.
Анна попыталась, стоя в очереди, смотреть на всё происходящее глазами журналиста. Вот подтянутый старик, он из числа добровольцев, работающих в ресторане бесплатно. Старик бодро здоровается с ожидающими своей очереди понурыми людьми: бонжур, медам и месье! Его тон и слова не звучат насмешкой — это общепринятая форма вежливости. Но ведь и все эти люди, если их помыть и приодеть, могут выглядеть не хуже, чем настоящие "медам и месье".
Вот негритянка, стоявшая перед Анной, чешет задницу, белозубо улыбаясь своей товарке. Плохо это или хорошо — такая простота?.. Но до ответа она так и не додумалась — подошла её очередь.
На этот раз среди добровольцев на раздаче появился новенький — мужчина лет тридцати пяти. Неожиданно он подмигнул Анне и принёс ей несколько замороженных кур вместо полагающейся одной. Анна даже не поблагодарила его, приняв за должное; лишь потом, на кухне, Линда, заметив, что она выгружает в свой холодильник столько куриц, удивлённо протянула:
— А мне сегодня почему-то только одну выдали…
"Привокзальную площадь заполонили цыгане из Румынии. Для французов цыган — это румын, а французских цыган здесь называют людьми путешествия.
Цыганам на площади всё равно, как называют их французы. Они целыми днями гомонят на привокзальной площади Лиона, что-то шумно обсуждают, весело попрошайничают мимоходом, не зная проблем с потерей самоидентификации в чужой стране. Народ-странник… На фоне западных детей, привыкших к дисциплине, цыганские дети поражают своей живучестью, хваткостью, приспособляемостью к любым условиям. Сегодня я не могла насмотреться на цыганского малыша. Пятнадцатилетняя многодетная мать кормила грудью другого своего младенца, успевая курить при этом и бойко болтать с товаркой. Её полуторагодовалый сын остался без присмотра и уковылял довольно далеко, а она не обращала на него никакого внимания. Остановившись, ребёнок осмотрелся, потянул носом воздух и понял, что он отстал от стада. Он не стал плакать, хотя было видно, что испугался, встал на четвереньки, что для него было более удобным способом передвижения, и быстро побежал на четвереньках в сторону своих. По пути он нашёл какую-то булку на земле, откусил от нее, вернувшись к матери, которая даже не заметила его долгого отсутствия. Мать приласкала его громкой оплеухой, и он весело закричал от переполнявшей его радости бытия. Что мы теряем в своём цивилизованном существовании?.. Отчего наши европейские дети бледны и скучны?.."
За стеклом
Проходя по улице, Анна чувствовала себя… как за стеклом — она видна прохожим, её обходят, ей говорят "пардон", если толкнут нечаянно, но при этом она будто бы в другом измерении — никому не нужна, никто не знает её и знать не хочет. Хоть кричи, хоть бейся — этого стекла не пробить...
На автобусной остановке Митя устал, она держала его на руках. Рядом затормозил автомобиль, и француз средних лет, многозначительно состроив глазки, предложил довезти. Анна удивилась и отказалась наотрез — не потому, что боялась, просто не было сил на пересечение огромной пропасти между ней и этим благополучным человеком.
Эмиграция — это экзистенциализм чистой воды. Когда она училась в университете, они читали Камю и Сартра. Тогда же появилась мода на экзистенциальное неблагополучие в их кругу: кто-то лёг в психиатрическую лечебницу, кто-то стал одеваться в грязные джинсы, заправляя их в резиновые сапоги. Если бы они только знали, что такое настоящий экзистенциализм!..
Анна шла по улицам западного города, уставленного роскошными католическими храмами, и чувствовала себя стеклянным шариком, который катится неизвестно куда и зачем. Она понимала, что её хрупкость — всего лишь одна из форм существования в этом мире, в котором каждый из живущих не знает, что с ним или его близкими случится через мгновение. Все люди хрупкие, как стеклянные шарики… они катятся по улицам, но мало кто из них задумывается о будущем.
Однажды она видела аварию — ревущий мотоцикл выскочил на тротуар и въехал в стену дома. Водитель мотоцикла умер сразу, какой-то сердобольный старый араб притащил из дома одеяло, чтоб накрыть его покорёженное тело. А ведь ещё пять минут назад он был жив, гнал на мотоцикле, пьянея от скорости и думая о встрече с подружкой. Жизнь всех людей экзистенциальна. Никто не знает, что с ним случится через минуту. Но у граждан своей страны есть хотя бы какой-то налаженный ритм, есть планы, мечты… У беженцев ничего этого нет — ни имущества, ни дома, ни планов.
Марина
Марина получила отказ из Парижа.
Она не сразу открыла дверь, но Анна так тихо и настойчиво стучала, что та сдалась. На щеке у Марины остались две красные полоски — долго лежала на щеке.
Анна вошла чуть виновато и села у стола — другого места в этой маленькой комнате не было. Обе молчали.
— Они как-то объяснили отказ?
— Написали, что просто встревожены. Что никаких конкретных угроз нет…
Она говорила тихо, и Анна не узнавала в этой постаревшей женщине шумную и энергичную Марину.
— А что бюро говорит — можно обжаловать это решение?
— Говорят, что через восемь дней я должна покинуть общежитие. А куда мне идти с ребёнком, я не знаю. Ходила сегодня в ассоциацию помощи бездомным; пошла вместе с Шако — думаю, может, пожалеют ребёнка, дадут что-нибудь… А там все с детьми, всем говорят одно и то же — своих бездомных некуда девать. Не знаю, правда это или нет, но они говорят, что даже французы с детьми на улице живут, потому что для них нет мест в общежитиях.
— Ну-у… я не видела детей на улицах. Взрослых видела, бомжей… Детей — нет.
— Врут, наверное, — равнодушно согласилась Марина.
— Знаешь, Анька, я не знаю, куда мне пойти, куда поехать, да и денег у меня только на билет в один конец. И у меня сейчас появилось отвращение к своему телу: это ведь оно просит ночлега, крыши над головой, еды, чистой одежды… Оно у меня большое, рослое, ему много места надо... Никогда в жизни у меня не было ничего подобного — так ненавидеть собственное тело...
— Марина, — прервала её Анна, — а твой арабский друг… Может он помочь — снять квартиру для тебя?
— На моё имя не сдадут — нет паспорта. А на его имя он сам не захочет — он знает, что у меня нет денег платить каждый месяц, — слишком рассудительно отвечала ей Марина, глядя куда-то перед собой.
— Ну и что тебе делать? Что?! — закричала на неё Анна. — Не сиди так в своей комнате, откуда тебя всё равно выкурят, придумай что-нибудь!
Марина ничего не отвечала.
— Может, тебе в Грузию вернуться?
— Где меня мой муж на второй день зарежет?! Ты что, не знаешь, почему я оттуда уехала?.. Никакая политическая партия меня бы не испугала так сильно, чтобы я от папы с мамой уехала! Это для этого концлагеря важны политические причины, а человеческих причин они не принимают, не признают, как будто угроза для жизни может быть только политическая! Я их ненавижу, этих французов, они все пресные, жадные… Пожалели паспорта для меня и моего сына, а арабов и чёрных пачками берут! Почему так?! Чёрная шалава с пятого этажа — страшная, как моя жизнь в этом хлеву! — она вчера получила согласие! Она ведь беженка… А я получила отказ. Нас почти в одно время вызывали в бюро… И эта курва чёрная теперь считается француженкой! А мне — куда мне пойти с моим ребёнком?! А-а-а! — закричала Марина так страшно, так безысходно, что у Анны заныло сердце.
— Не надо, не кричи так! Я позвоню в одну редакцию, расскажу им, что тебе некуда уходить… может быть, они помогут. Не кричи!
Анна спустилась к автомату и набрала номер своей знакомой журналистки Мириам Монд. Чётко изложив ситуацию, она услышала в ответ:
— Да, тяжело... Но я могу назвать это типичной ситуацией — жилья не хватает на всех, это правда. Но я подумаю, что можно сделать для вашей знакомой и её ребёнка...
Дневник Анны:
"Мириам связалась с ассоциацией, защищающей права одиноких матерей, и договорилась о встрече с ними для Марины.
На следующий день рано утром мы с Мариной приехали в центр Лиона, на центральную площадь города. Её нам дали в качестве ориентира, так как мы не слишком хорошо ориентируемся в здешних местах. Став спиной к памятнику Луи XIV — так, чтоб голова его коня смотрела нам в спину, мы минули несколько кварталов и через пару перекрёстков нашли нужный нам адрес. Лил сильный дождь, и мы ввалились в ассоциацию как две мокрые ощипанные курицы.
В этой ассоциации самое важное лицо — секретарша, напоминающая Эдит Пиаф, с прокуренным голосом и бойкими манерами. Она приказала нам ждать, и мы послушно сели — да и кто бы в подобной ситуации ослушался. Ждали мы минут сорок; под конец нам очень хотелось встать и хлопнуть дверью — кто заставит ждать бедных просителей почти час…
Нас принял усатый дородный месье — социальный ассистент. Он извинился за опоздание, сказал, что у них было какое-то важное и срочное совещание. Но нам уже было не до обид и не до их демонстраций.
Ассистент выслушал мой сбивчивый рассказ о Марининой ситуации, при этом она показывала ему фотографию Шако, чтоб растрогать (она пожалела будить и тащить сына сюда, но прихватила его фото! — узнаю прежнюю Марину).
Кажется, усатый социальный сотрудник понял всю серьёзность положения Марины — одна, без денег, без жилья в чужой стране, с ребёнком на руках! — но помочь ничем не смог. Он сказал, что его ассоциация ищет жильё только избитым жёнам, когда есть прямая угроза жизни ребёнку и матери, поэтому Марина не в их компетенции. Но он дал Марине адреса ассоциаций, которые помогают с жильём лицам без бумаг. Он предупредил, что нужно предварительно позвонить, чтоб договориться о встрече. Чтоб ускорить встречу, можно сослаться на его имя, которое он написал на бумажке.
Мы шли по улицам города и были чужими на этом празднике жизни. Если бы я не знала Марину и её сына, милого Шако, я бы так не переживала за них: я стала замечать, что моё сердце начало экономить на сострадании, как будто для того, чтобы сберечь силы для себя самой. Но сейчас моё сердце просто разрывалось от страха за их будущее — куда они пойдут, как решится их участь?.. Нужно что-то делать!"
* * *
Всю неделю Анна и Марина ходили по ассоциациям и общежитиям, везде получая отказ. Приближался день выселения, а решения не было. Обе устали, похудели и простудились под весенними холодными дождями, обрушившимися на город в ту неделю.
В воскресенье Марина нарядилась, накрасилась, приклеила ногти, подкинув Анне Шако и сказав только, что вернётся поздно. Вернулась она лишь на следующий день, признавшись Анне, что они с Шако завтра переезжают.
— Куда?!.
— Я познакомилась с хорошим человеком. Он старше меня, но у него свой дом в деревне. Я ему очень понравилась, он сказал, что я похожа на его мать в молодости.
— А как вы?..
— Он нам наймёт адвоката, который продолжит наше дело — будем жить у него и добиваться статуса… Если понадобится, выйду замуж за Мохаммеда, чтобы Шако рос в нормальной стране.
На следующий день Анна увидела Мохаммеда — это был маленького роста пожилой араб, который улыбался и добродушно гладил Шако по голове. Мальчик ел шоколадку, которую ему привёз Мохаммед, и застенчиво вжимал голову в плечи.
Марина избегала смотреть на Анну.
— Ты меня не бойся, Шака, — обращался Мохаммед к Шако. — У меня хороший домик, ты там будешь хорошо жить. Я не злой, — и делал при этом страшную гримасу, в ответ на которую Шако смеялся.
Мохаммед подмигнул Анне:
— Она храпит — всю ночь не давала мне спать. Я чуть из дома не убежал.
Марина снисходительно улыбнулась.
Когда он понёс в машину её чемодан, Марина быстро сказала Анне:
— Ты только не проболтайся. Я ему ничего не сказала о том, что меня отсюда выгоняют.
Дневник Анны:
"Вот так мы расстались с Мариной. Обещались звонить друг другу, но мне кажется, что мы могли понимать друг друга только в этом общежитии.
Её живучесть восхищает меня — кто бы ещё смог так быстро найти выход из безвыходной ситуации. Но мне стыдно было смотреть на Шако… Я бы ни за что не смогла устроить такое Митьке.
Марина поделилась со мной рецептом завоевания пожилых арабов, ненадолго снова став самой собой — ироничной свободной грузинкой: ночь любви, сказки о своей жизни, и приготовленное для воздыхателя сациви. Важнее всего, по её словам, сациви.
Уходя, Марина вдруг обернулась ко мне:
— Знаешь, отчего я так прикипела к тебе?
Я удивлённо покачала головой: не знаю, мол.
— Мне понравилось, что ты не обратила внимания на мои слова, когда мы с тобой только познакомились. Помнишь, я говорила много ерунды насчёт твоей внешности, вкуса и ума?.. Люди часто клюют на такой приём, начинают зазнаваться после моих комплиментов. А для тебя похвалы ничего не значили, это ничего не изменило. Я почувствовала, что ты настоящая…
— А я принимала тебя за стихию, считала непредсказуемой… как море у вас в Батуми.
— Жаль, что мы больше не будем с тобой так дружить, как здесь. Здесь мы были все вместе, как на войне… А теперь разойдёмся в разные стороны… кто знает, может я у тебя ещё какого-нибудь француза отобью! — рассмеялась Марина.
— Как ты можешь такое говорить! Ты же теперь верная мусульманская жена! — я пыталась за шуткой скрыть горечь от её последних слов.
— Ты что, смеёшься, что ли?! Я с ним на полгода — пока нового суда жду!"
Рождение Анны-Лионы
В общежитии часто случались конфликты из-за детей. Сначала дрались дети, потом приходилось разнимать их родителей. На первом этаже однажды подрались два мальчика лет пяти, иранец и ливанец. Дрались не на жизнь, а на смерть — с резкими выкриками для устрашения противника, с кулачными ударами, с резкими подножками. Падали, поднимались, опять дрались. Никто не сумел их разнять. Мать ливанца — худая маленькая женщина с яркой косметикой на лице, яростно вмешалась, пиная противника её сына. Пава, так звали того мальчугана, громко вопя, побежал жаловаться своему отцу, который добавил сыну ещё и от себя, чтоб не дрался с кем ни попадя. Пава, получив крепкого тумака от отца, от такой несправедливости затаил обиду на своего противника и его родителей: каждый раз, проходя мимо их двери, он плевался или бросал в неё куски грязи. Его ловили, наказывали, кричали на него, но через день он начинал всё заново.
В дело вмешалась мать Павы, иранка Халима, полная высокая женщина с ямочками на щеках. Она пригласила ливанку к себе — и за чашкой кофе они помирились.
В семье иранского губернатора, мужа Халимы, сбежавшего из Ирана во Францию от своего политического врага, было трое детей. Четвёртый ребёнок остался на родине, он умер от неизвестной болезни. Халима была на седьмом месяце беременности, когда они приехали во Францию, из-за беременности им и выделили жильё в общежитии.
Письмо Анны:
"Я переживаю какое-то необыкновенное состояние. Мне показалось, что в мир вернулся смысл, который я давно уже утеряла. Я ведь живу только сегодняшним днём, все мои заботы — накормить Митю, написать письмо адвокату…
Позавчера утром меня позвали к Халиме — у неё начались роды. Эта женщина — мать четверых детей, одного из которых она потеряла в Иране, не говорит по-французски. Только по-английски. Муж её привёз всю семью сюда, спасаясь от казни. Митя подружился с её младшим сыном Павой, поэтому мы с ней познакомились, даже подружились. Халима — живая, чуткая женщина. У неё хорошее чувство юмора, которое смягчает пребывание всей её многочисленной семейки здесь, на чужбине. Мне кажется, что она и мне сознательно помогала — смешила, тормошила, когда я тосковала.
Работник бюро, молодой парень, был перепуган предстоящим событием, а скорая помощь не выезжала без подтверждения, что эти начавшиеся схватки не ложные. Этот испуганный ассистент позвал меня и передал мне телефонную трубку. Равнодушный голос объяснил мне, сонной и тоже немного перепуганной, как нужно считать секунды между схватками. Я, взяв себя в руки, начала считать — выходило по двадцать секунд между второй, третьей и четвёртой схватками. Халима улыбалась нам между приступами боли, но её смуглое лицо уже побелело. И вдруг между следующими схватками перерыв получился всего пятнадцать секунд. Я тут же доложила в трубку, что у неё настоящие схватки, пусть приезжают! А в ответ, совсем как у нас, равнодушный сонный голос:
— Мало машин на линии…
Если б мне ответили не по-французски, я бы подумала, что я всё ещё на родине!
— Мадам, — говорю я в трубку, — у этой женщины всё может произойти очень быстро, у неё пятые роды!
— Нет, можно ещё подождать, — отвечает мне тот же голос.
— У неё начались настоящие роды. Если что-то случится с ребёнком, я пойду в газету и напишу статью про вас, я журналист!
— Да вы сначала говорить научитесь по-французски, — вяло замечает дама, но всё-таки сообщает через паузу: — Бригада выезжает. Пусть её встретят возле вашего общежития.
Мы погрузили Халиму в машину, и тут она попросила:
— Аниа, поедем со мной — я там ничего не пойму по-французски. Я боюсь!
Она мне так вцепилась в руку, что я не могла вырваться — до сих пор у меня остались синяки на запястье. Муж Халимы тоже слёзно начал умолять меня ехать с ней.
— Я не могу, — ответила я. — У меня сын дома спит.
Муж чуть на колени не встал передо мной — сказал, что он разбудит Митю и заберёт его к себе, чтобы дети с ним поиграли.
Тут на нас прикрикнули акушеры, что пора ехать, быстро закрыли двери… и я поехала в роддом.
В приёмной Халиме задавали вопросы — кто, что и откуда; я переводила, а она уже начала кричать от потуг, тут же начав рожать. Прибежал врач, медсестра принесла кислородную маску, а Халима не отпускала моей руки и кричала так, что напугала меня — я даже подумала, что она умирает, но как раз в этот момент она и родила. В рубашке у неё закопошилось крошечное существо в сгустках крови, акушеры даже не успели принять ребенка — так стремительно он вышел на свет…
Халима родила девочку. Девочка получилась крохотной, но живучей, покрытой тёмным пушком по всему телу, как маленький прекрасный зверёк."
* * *
Вернувшись в общежитие, Анна зашла к мужу Халимы, чтобы поздравить его с новорожденной и забрать Митю. Дверь была закрыта на замок. Анна постучала — никто не ответил. Она подумала, что отец отвёл детей на детскую площадку, но не увидела во дворе ни души. Начиная нервничать, она услышала между этажами детские голоса. Оказалось, что дети, сидя на полу, играют в карты. На Митином лице была свежая царапина.
— С кем ты подрался, Митя?
— Это его брат меня ударил, — показал Митя на Паву. Пава, догадавшись, о чём речь, это подтвердил.
— За что он тебя побил?
— За то, что я у него велосипед взял.
— А почему вы сидите тут, да еще и на полу? Здесь грязно и холодно, пошли домой!
Когда они все вместе поднялись на свой этаж и свернули в коридор, дверь комнаты Халимы тихонько открылась, оттуда выскользнула худая чёрная ливанка — та самая, которая избила когда-то Паву, заслужив кличку от Халимы. Когда Пава постучал, его папаша открыл дверь и с преувеличенной радостью закивал головой, заметив удаляющуюся Анну. Знаками он спросил её, как там дела в роддоме у его жены.
— Халима родила девочку, — по-английски сказала ему Анна.
Мужчина оживился, подошёл к Анне и попытался пожать ей руку. Брезгливо выдернув свою ладонь, она ушла, а дома долго мылила и тёрла щёткой руки.
После пережитого в роддоме у неё не осталось никаких эмоций. Она очень устала, хоть и не так, конечно, как Халима, только что в муках родившая своему беспутному мужу пятое дитя.
Письмо Анны:
"Я забрала Митю у мужа Халимы — только сейчас поняла, что я, оказывается, не знаю его имени — и пошла по своим делам. И целый день у меня было такое чувство, как будто у меня в жизни случилось что-то замечательное и значительное.
Кстати, девочку они назвали Анной-Лионой, так язычески обозначив мою помощь в родах и место рождения дочери."
Дневник Анны:
"Весной Мурад, наш учитель французского, спросил нас на уроке:
— Куда бы вы хотели пойти в Лионе? Что вас интересует?
Мы вразнобой назвали несколько мест: кино, музей, экскурсия на корабле по реке Рон. Нам пообещали организовать все эти немудрёные развлечения. И не обманули.
Когда настал день музея, нас привели… в зоологический музей. Оказывается, Мурад не знал, что существуют музеи живописи. Я была вначале разочарована — я ждала других впечатлений, эстетических, по которым испытываю настоящий голод в последнее время. Но экспозиция оказалась великолепной: динозавры, птеродактили в натуральную величину, бабочки и змеи невиданных размеров и окрасов. Митя был потрясён. Правда, он быстро устал от всех впечатлений, закапризничал, но вначале с открытым ртом уставился на динозавров, которые равнодушно смотрели куда-то мимо нас своими стеклянными глазами.
В начале мая, когда в Лионе проходила международная выставка современного искусства, пригласительные билеты дали только мне с Митей. Выставка проводилась в концертном зале, выставочном комплексе, а ещё семьдесят лет назад это помещение было скотобойней, где потолок был устроен из железных балок, по которым передвигались убивающие и обдирающие механизмы и замораживающие устройства.
Выставка, представляющая несколько сотен работ из разных стран мира, состояла из инсталляций. Современное изобразительное искусство во всём мире переходит на инсталляции.
Идеи некоторых инсталляций очень актуальны: например, чтоб обратить внимание на экологическую проблему нашей планеты, художник из ЮАР сделал огромный глобус — метра два диаметром. И весь этот шар он усеял мёртвыми жуками. Сколько же жуков он заморил для своей экологической постановки! Проспект выставки равнодушно сообщил, что более пяти тысяч... Может, я уже сумасшедшая, и незачем обращать внимание на такие вещи? Может быть, принеся в жертву зелёных жуков, этот художник хотел вызвать особого рода переживания за экологию в своих зрителях?..
Другая постановка — кухня в натуральную величину: шкафы, плита, микроволновка, холодильник, мойка. Разноцветная кухня эта была собрана из бисера. Автор таким образом хотел обратить внимание людей на кропотливый ежедневный домашний труд женщин.
Был ещё выставлен русский фотограф — Михайлов. Он выбрал для этого ежегодного биеннале тему, связанную с русскими бомжами. Фотографии пьяниц и бомжей в роскошных тёмно-красных интерьерах собрали много зрителей. Особенно много народа рассматривали фото пьяной бабки, раздетой до трусов, у которой её напарник, такой же бомж, поддерживал огромную, с голову ребенка, грыжу на весу. У обоих были лица обиженных старых детей.
Был представлен чёрно-белый фильм американского режиссёра марокканского происхождения. В нём говорилось о провинциальных мусульманских женщинах, которых покидают мужчины, уходя в города и уезжая в другие страны. Женщины овечьим стадом следуют за мужчинами на пристань, машут им руками вслед, потом долго стоят и смотрят, ничего не понимая в этом мире… Двадцатиминутный фильм был сделан настолько серьёзно, что эта далёкая проблема из абсолютно чуждого мира задела меня. Однажды во время студенческой практики я была в командировке в северной деревне. Меня пригласили в бревенчатый дом выпить чаю. Хозяйка дома, женщина лет пятидесяти, выставила на стол самовар, конфеты, варенье, и мы разговаривали с ней обо всём на свете. Во время разговора в комнату вошёл застенчивый парень лет двадцати пяти.
— Это мой сын, — сказала хозяйка. И спросила меня, замужем ли я.
Услышав такое, её сын выбежал, подумав, что его сейчас начнут сватать.
— Замужем, — призналась я.
— А у нас в деревне ни одной девки, — вздохнула она. — А моему-то жениться пора. Вона, какой богатырь пропадает…
— Пусть в город едет, — посоветовала я.
— А меня — бросит? А дом? Скотина ведь у нас — сена-то сколь нужно…
Ещё почему-то вспомнилось, как однажды на втором курсе я вышла зимой на крыльцо нашего журфака. Воздух был синий, уже наступили сумерки, но с нашего крыльца ещё был виден Александровский сад… И там, на этом крыльце, вдохнув свежего январского воздуха, я вдруг почувствовала себя счастливой! Достоевский писал, что у людей в детстве и в юности бывают такие особые моменты, которые их потом спасают в жизни. Те, на снежном крыльце, мгновения меня до сих пор спасают. Я не забыла, что бывает ощущение полноты и осмысленности бытия..."
Повестка
Из бюро принесли бумагу: "Мадам Журавлёва, на ваше имя получено заказное письмо. Просим явиться для получения корреспонденции сегодня после обеда".
В этом письме, которое было вскрыто и прочитано с неожиданной дрожью в руках и ногах, оказалась повестка в суд на рассмотрение просьбы о предоставлении статуса.
Дата рассмотрения просьбы была назначена на 14 июня.
— Вас вызывают в суд? — спросила Натали.
— Да.
— На какое число?
— Четырнадцатое июня.
— Но это невозможно! — удивилась Натали. — Это же День Бастилии!
— Июня, не июля.
— У вас такое произношение, что я услышала "июля"… Документы у вас готовы?
— Да.
Когда Анна уже выходила, Натали крикнула ей вслед:
— А с кем вы оставите ребёнка? Билеты на него не предусмотрены!
— Я подумаю… — вздохнула она.
Дневник Анны:
"14 июня, в день суда, я выехала шестичасовым поездом из Лиона в Париж. Митя спал, Марина должна была забрать его утром.
Это событие, судебное заседание для рассмотрения просьбы о статусе политического беженца, очень тяжёлое и нервное, так как именно этот суд решает дальнейшую судьбу обитателей и нашего общежития, и сотен таких домов по всей Франции. В случае позитивного решения счастливого беженца под завистливыми взглядами соседей переселяют из общежития в квартиру, ему назначают пособие и предоставляют право получить любую профессию — от парикмахера до кинорежиссёра. Если же человек получает отказ, то его выселяют из общежития на улицу и лишают пособия, а то, как он будет дальше жить — это никого не волнует.
Поэтому сказать, что я боялась, это ещё ничего не сказать. И почему-то всё время хотелось смеяться. Я видела смешное во всём: вот какая-то пара целуется — это оказывается, очень смешно, такая страсть в поезде в шесть часов утра! Когда хрюкнуло радио и, прокашлявшись, объявило о возможном опоздании, я тоже чуть не рассмеялась в ответ. Контролёр с манерами гомосексуалиста взял мой билет на проверку и уронил его мне же на голову — и я уже еле сдерживалась от душившего меня смеха.
И вот Париж! У меня в запасе полтора часа. Я сажусь в метро. Здешнее метро напоминает общественный туалет — кафельная плитка грязно-зелёного цвета, нет указателей, тупики на платформах, старые раздолбанные поезда с дверями, открывать которые нужно самим пассажирам. Добираюсь с пересадкой до нужной станции, выхожу и через пять минут обнаруживаю здание суда. Меня трясёт, мне опять смешно. Чтобы успокоиться, иду в ближайшее кафе, заказываю кофе у стойки, что в два раза дешевле, чем кофе за столиком, не спеша пью и стараюсь успокоиться. Думаю о Мите, волнуюсь — как он там… Каким он запомнит своё детство? Долгие переезды, ночлежки, общежитие беженцев, драки с арабами-сверстниками…
Допиваю кофе, выхожу из кафе и иду к серому зданию суда. На входе вооружённые охранники просят показать повестку и документы, затем объясняют мне, что зал номер девять на первом этаже направо.
Чувство… как перед операцией. Вхожу в зал. Там уже много народу — разбираются ещё два дела. Судья — седой пожилой месье; кроме него — два общественных заседателя слева и справа от судьи. Секретарь судебного заседания, адвокаты, переводчики, сами просители, публика из числа студентов-практикантов с юридического факультета и их профессор.
Слушается дело индуса, который живёт в Бангладеш. Он преследуется местными властями за нападение на посольство, которое было организовано местными террористами. Он открещивается от всех обвинений, представляет алиби — написанные от руки свидетельства его соседей. Судья, высокомерно разговаривая, отмахивается от его бумаг. Индус горячится, доказывает, его адвокат тоже пытается что-то объяснить... Кажется, исход этого дела всем ясен: студенты в сторонке о чём-то говорят между собой, качая головами.
Вызывают вьетнамку. Немолодая женщина, скромно одетая, держится с почтением, но она почему-то мне кажется неприятной. Может, дело в её излишней почтительности, с которой она кланяется суду? Хотя в такой ситуации мне трудно быть беспристрастной. При всей своей угодливости, вьетнамка держится увереннее, чем предыдущий истец. У неё отлично подготовленное досье — с видеосюжетом, доказывающим её участие в антиправительственной демонстрации.
— Но вашего лица не видно в толпе! — возражает судья.
— Я там была, месье. После этого меня начали преследовать из-за моей политической деятельности.
— Какой именно?
— Политической, месье.
В зале лёгкий смех.
Судья работает на публику, недоверчиво двигая бровями.
— Хорошо, мадам, продолжайте свой рассказ…
При этом лицо судьи кривится в лёгкой презрительной гримасе.
Вьетнамка продолжает:
— Я выбрала Францию для политической эмиграции, потому что в этой стране проживает мой брат.
— Где именно?
— Под Парижем, месье. В Медоне. Он содержит ресторан, где работает вся его семья, месье.
И где, ясное дело, будет работать и она сама, политическая эмигрантка из Вьетнама.
Решение суда будет отправлено через три недели, об этом сказали индусу и вьетнамке. Сейчас моя очередь…
— Вы утверждаете, что жили в Риге. А сколько километров от Риги до русской границы?
— Я не знаю точно… Затрудняюсь ответить.
— Вы утверждаете, что работали журналисткой в популярной газете. Почему ваша газета не могла попросить для вас гражданства в Латвии или в России?
— Мне кажется, что не нужно преувеличивать всесилие прессы в России или Латвии.
После каждого подобного ответа судья приподнимал брови и удовлётворенно кивал, многозначительно оглядываясь на заседателей.
Мой адвокат пытался что-то говорить и объяснять, но судья его грубо прерывал…
Когда этот ужас закончился, я вышла в коридор и сказала адвокату:
— Это конец. Мне не дадут статуса! — и нервно рассмеялась."
Лион. Русская жена
В супермаркете Анна услышала русскую речь. Обернувшись, она увидела женщину.
— Вы русская? — спросила её Анна.
— Да, русская, — вежливо ответила собеседница.
— Давно не слышала на улицах русской речи…
— Да что вы! Здесь полно русских жён!.. Вы, наверное, недавно приехали?
— Полгода…
— А я уже четыре года здесь живу. Хотите, посидим в кафе, пообщаемся, если у вас есть время.
Расплатившись, они выбрали маленькое уютное кафе неподалеку, заказали кофе и разговорились.
Лариса, новая знакомая, оказалась из тех маленьких женщин, что берут судьбу за рога, устав надеяться на чудо. Она рассказала, что жила в Витебске, играла, как и её муж, в местном филармоническом оркестре, воспитывала детей. Жизнь как жизнь — с закулисными сплетнями, травлей конкурентов и экономией денег. Муж умер от сердечного приступа, случившегося во время репетиции. Это совпало с перестройкой и последующей инфляцией — обнищавшим людям стало не до классической музыки. Оркестр распался, Лариса, чтоб прокормить детей, нанялась продавцом на рынок, тянула семью и верила, что они ещё выкарабкаются. Однажды она познакомилась с женщиной, которая предложила выдать её замуж за обеспеченного иностранца. Лариса продала свою золотую цепочку и серёжки, сделала прическу, сфотографировалась в дорогом фотоателье, оплатила услуги брачной конторы и познакомилась по Интернету с пожилым французом. Вдовца из маленького провинциального городка в департаменте Рон угораздило познакомиться именно с Ларисой — женщиной, ожесточённой борьбой за выживание. Его романтичные представления о нежной славянской душе разбились о советскую практичность провинциальной музыкантши с еврейскими корнями и украинской фамилией. Его старость навсегда была отравлена горькими размышлениями о потерянных деньгах и об обманутом доверии: Лариса, прожив три года с вдовцом в маленьком французском городке, терпя его экономию, желчные замечания насчёт русской культуры и политики, изо всех сил изображая нежную и преданную жену, после получения французского гражданства с радостью высказала ему всё, что она о нём думает, и перебралась в Лион, столицу департамента Рон, город, в котором нашла себе жильё и работу…
— Забрала детей из Белоруссии, сейчас дочку выдаю замуж здесь, в Лионе, подаю на развод со своим бывшим, преподаю в консерватории по классу скрипки… Только сейчас начинаю жить, — вдохнула Лариса. — Ну а вы, как вы тут очутились, Анечка?
— Я беженка, — призналась Анна.
У Ларисы округлились глаза:
— Да вы что! С такой-то внешностью? Почему бы вам не присмотреть кого-нибудь из французов? Хотя бы ради паспорта… Посмотрите правде в глаза, Аня… У вас мало шансов получить статус беженца во Франции. Во-первых, они боятся красивых одиноких женщин из России, считая их проститутками. Вы ж видели, сколько у них своих девиц вдоль дорог стоит… Во-вторых, в России сейчас объявлена демократия, поэтому русским здесь паспорта не дают. Не теряйте времени на эти пустые надежды, моя дорогая!
Она стала так горячо доказывать Анне все выгоды брачного союза с французом, что Анна не выдержала:
— Знаете, Лариса, выйти замуж за случайного человека мне кажется ещё хуже, чем жизнь без паспорта и гражданства!
Лариса рассмеялась немного искусственно:
— Это только вы так думаете... Жалко вашего ребёночка, который живёт в общежитии. Вы, наверное, понимаете, какое будущее светит ему... Если вы думаете, что тысячи женщин идут на такие браки только для того, чтобы найти спутника жизни для себя, встретить любовь — вы ошибаетесь, моя дорогая. Идут ради детей, чтоб хотя бы они пожили нормальной жизнью, с материальной базой и возможностью получить хорошее образование… Жизнь — жестокая штука. За всё нужно платить. Я заплатила двумя годами со своим так называемым мужем. Как я там жила — этого никому не расскажу. А мои дети в это время были в Белоруссии, в семье у брата моего покойного мужа. Жили пасынками, их даже за стол звали, когда всё самое вкусное уже съели. А я каждый месяц деньги присылала на питание… — Лариса чуть не заплакала.
— Я не собиралась вас обидеть, Лариса, — заволновалась Анна. — Есть женщины, которые могут вытерпеть ради своих детей брак с нелюбимым мужчиной. Но я точно знаю, что не вытерплю…
— Да, это нелегко! — веско сказала Лариса. — Знаете, чем больше встречаюсь с русскими, тем меньше у меня желания в следующий раз разговаривать с ними. До свидания… точнее, прощайте! — последние слова она бросила уже через плечо.
Ресторан "Сердце"
Его придумал и организовал известный комик, двадцать лет назад хохмивший на всю Францию шутками, за которые бы сегодня его привлекли к суду антирасистские ассоциации.
В этот ресторан выстраивались за замороженными котлетами огромные очереди из беженцев, безработных и прочих людей, отверженных обществом. Анна приходила сюда раз в неделю. Ей выдавали на двоих три пакета молока, пакет печенья, пачку спагетти, кофе, конфитюр, сахар и шоколад в плитках. Иногда — компоты или йогурты.
Анна попыталась, стоя в очереди, смотреть на всё происходящее глазами журналиста. Вот подтянутый старик, он из числа добровольцев, работающих в ресторане бесплатно. Старик бодро здоровается с ожидающими своей очереди понурыми людьми: бонжур, медам и месье! Его тон и слова не звучат насмешкой — это общепринятая форма вежливости. Но ведь и все эти люди, если их помыть и приодеть, могут выглядеть не хуже, чем настоящие "медам и месье".
Вот негритянка, стоявшая перед Анной, чешет задницу, белозубо улыбаясь своей товарке. Плохо это или хорошо — такая простота?.. Но до ответа она так и не додумалась — подошла её очередь.
На этот раз среди добровольцев на раздаче появился новенький — мужчина лет тридцати пяти. Неожиданно он подмигнул Анне и принёс ей несколько замороженных кур вместо полагающейся одной. Анна даже не поблагодарила его, приняв за должное; лишь потом, на кухне, Линда, заметив, что она выгружает в свой холодильник столько куриц, удивлённо протянула:
— А мне сегодня почему-то только одну выдали…
* * *
Анну вызвали в бюро. Она уже знала, что пришёл ответ на её просьбу о статусе беженца.
Её бил какой-то нутряной, звериный озноб, но она держалась спокойно. Зайдя в бюро и поздоровавшись со всеми, она подошла к столу Франка. На столе лежал конверт. Франк жестом пригласил Анну открыть его. Открыв, она всё равно ничего не смогла понять — её словарного запаса не хватало, чтобы разобрать прыгающие перед глазами строчки на этой гербовой бумаге.
Франк взял у неё письмо, внимательно прочитал его, помолчал и произнёс внушительно:
— Мадам Журавльева, в вашей просьбе на предоставление статуса политического беженца во Франции отказано!
Вместо эпилога
Письмо Анны:
"И самая главная новость: мы получили вчера отказ на нашу просьбу о статусе во Франции. Это очень тяжёлая новость. Все нам сочувствуют, даже администрация этого общежития. Никто не знает, куда мы пойдём. Через семь дней мы должны сдать ключи от наших комнат коменданту. Но я знаю, что должно случиться что-то хорошее, мы просто не можем оказаться на улице. После этого события, которое случилось вчера со мной, я поняла, что жизнь всё-таки продолжается.
Напишу, когда станет известен наш новый адрес.
До свидания.
Ваша Анна".
Франция. 2013
Анну вызвали в бюро. Она уже знала, что пришёл ответ на её просьбу о статусе беженца.
Её бил какой-то нутряной, звериный озноб, но она держалась спокойно. Зайдя в бюро и поздоровавшись со всеми, она подошла к столу Франка. На столе лежал конверт. Франк жестом пригласил Анну открыть его. Открыв, она всё равно ничего не смогла понять — её словарного запаса не хватало, чтобы разобрать прыгающие перед глазами строчки на этой гербовой бумаге.
Франк взял у неё письмо, внимательно прочитал его, помолчал и произнёс внушительно:
— Мадам Журавльева, в вашей просьбе на предоставление статуса политического беженца во Франции отказано!
Вместо эпилога
Письмо Анны:
"И самая главная новость: мы получили вчера отказ на нашу просьбу о статусе во Франции. Это очень тяжёлая новость. Все нам сочувствуют, даже администрация этого общежития. Никто не знает, куда мы пойдём. Через семь дней мы должны сдать ключи от наших комнат коменданту. Но я знаю, что должно случиться что-то хорошее, мы просто не можем оказаться на улице. После этого события, которое случилось вчера со мной, я поняла, что жизнь всё-таки продолжается.
Напишу, когда станет известен наш новый адрес.
До свидания.
Ваша Анна".
Франция. 2013
